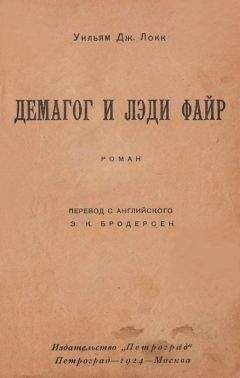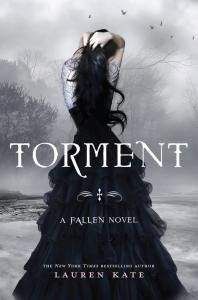— Не далее, как через две недели у фабрикантов иссякнут все средства, — сказал он с убеждением. — Им не удастся скрыть дальше своего обмана.
— А вы уверены, что история с Розенталем миф?
— Я также уверен в этом, как и в том, что луна освещает в эту минуту ваше лицо.
При этих; словах луна случайно скрылась за тучу. Лэди Файр вздрогнула и тронула его за руку.
— Смотрите, какое дурное предзнаменование!
Но Даниэль засмеялся. Он не верил ни в какие предзнаменования.
— Впрочем, Джульетта у Шекспира называет луну непостоянной, — смеясь сказала лэди Файр. — Поэтому и мы не будем ей верить.
— Только бы мне удержать рабочих до этого времени, — сказал Годдар.
— Это вам несомненно удастся, мистер Годдар, — ответила она. — Это будет великая победа, и мы все будем гордиться вами.
В эту ночь Годдар заснул с полной надеждой на победу. На утро он встал бодрый, оживленный и с новой силой принялся за работу. В душе у него была тоска по лэди Файр, но он утешал себя тем, что через пять дней она должна вернуться.
Однако в эти дни случилось важное событие. Слухи о денежной поддержке Розенталем синдиката фабрикантов оказались верными. И это стало известным всем.
— Я не поверю этому, — вскричал Годдар, обращаясь к бледному секретарю. — Я не поверю этому, пока своими глазами не увижу чека Розенталя. Если вы сдадитесь теперь, то величайшая победа, которую когда-либо удавалось одержать рабочим, ускользнет из наших рук. Несчастные, малодушные трусы!
Но уверенность в том, что победа невозможна, охватила всех рабочих. Годдар боролся с этим настроением со всей страстностью своей натуры, прилагая нечеловеческие усилия, не щадил своих сил, но все было напрасно. Конец наступил с ошеломляющей быстротой. Годдар чувствовал, что его Ватерлоо проиграно.
Немного психологии.
Тяжелой, медленной походкой поднимался Годдар в квартиру лэди Файр. Он устал душой и телом. Его неотразимо влекло сюда, хотя вся его гордость возмущалась в нем при мысли, что ему приходится сознаться в своем поражении перед женщиной, тем более, что эта женщина была лэди Файр. В нем заговорило старое классовое чувство. Он чувствовал, что она была выше его. Только успех, слава могли возвысить его до ее уровня. Неудача снова сбрасывала его вниз. Эта мысль пришла ему в голову еще в поезде, когда он ехал в Лондон. Нахмуря брови, он поднял воротник своего пальто, но все-таки решил выпить чашу испытания до дна. С вокзала он проехал прямо к лэди Файр.
Он оставил саквояж и пальто в передней и последовал за горничной в гостиную. Очутившись в знакомой комнате, он почувствовал себя бодрее. Полусвет, веселый огонь в камине, теплые тона ковра и портьер, вся эта уютная и милая обстановка, впечатление полной гармонии во всем окружающем — все это подействовало благотворно на его усталые нервы.
Лэди Файр уронила книгу, которую она читала, и быстро поднялась ему навстречу. В глазах ее он прочел теплое участие.
— О, какой у вас усталый вид! Садитесь скорее сюда в кресло у камина. Как хорошо, что вы пришли! Видите, я ждала вас — с Муму.
Она улыбнулась и показала на белую кошку, которая, изогнув спину дугой, терлась о ноги Годдара. Он наклонился и погладил кошку.
— Я только что приехал, — сказал он, усаживаясь с усталым видом в кресло и откинув назад голову.
Он выглядел совсем изможденным. Бледность покрывала его смуглое лицо. Его глаза были обведены кругами и еще более выделялись на бледном, точно иссеченном из камня, лице. Прядь черных волос ниспадала на лоб. Лэди Файр стояла, опираясь рукой на спинку кресла, и смотрела на него с сожалением.
— Вы ели хоть что-нибудь сегодня?
— Да, кажется.
— Разве? Нет, я вижу, что вы еще ничего сегодня не брали в рот. Я сейчас прикажу подать что-нибудь.
— Я не могу, — начал он, но она его быстро перебила.
— Вы должны это сделать ради меня, — промолвила она. — Я не могу видеть вас таким усталым. Вы будете чувствовать себя совсем другим. И кроме того выпейте шампанского.
Никто не мог бы отказаться от угощения лэди Файр, когда она предлагала его с такой очаровательной лаской.
Годдар благодарно улыбнулся и молча следил за ней глазами, когда она вышла отдавать нужные распоряжения.
Он никогда не мог вполне освоиться с этой комнатой. Она казалась ему каким-то уголком рая, который лишь непонятным чудом уцелел в нашем неприветливом мире. Но еще никогда это чувство не было так сильно, как в настоящую минуту. Он еще слишком был полон мучительных переживаний последних дней; перед его глазами вставали невеселые картины — узкие, грязные улицы, мрачные мертвые фабрики, убогие дома, праздные, угрюмые люди. По улицам двигалась толпа измученных, апатичных рабочих, шедших с последнего митинга. Годдар был физически измучен усталостью и голодом. И это теплое гнездышко, полное мира и удобства, казалось ему сейчас какой-то волшебной сказкой. Даже Муму, грациозно свернувшаяся на своей бархатной подушке, была как будто совсем иной породы, чем те худые серые кошки, которых он видел у дверей грязных домиков. Голос лэди Файр доносился до него, как отдаленная тихая музыка, которую иногда слышишь в грезах. Ее нежное женское участие охватило его, как теплая ласка. Все это походило на сон. Годдар наклонился, оперся локтями о колени и положил голову на руки. Ему хотелось, чтобы она скорее вернулась. Он хотел рассказать ей о своей неудаче. Признание не казалось ему больше ни постыдным, ни тяжелым, и не походило уже на испытание. Одно ее присутствие, как по волшебству, уничтожило всю горечь в его душе.
Она вернулась к камину, опустилась на колена на низкую скамеечку и протянула руки к огню.
— Сейчас подадут!
Она повернулась к нему лицом. Вся ее фигура была полна обаятельной женственности и прелести.
— Вы так же добры, как прекрасны, — сказал он.
Она не отвела от него взгляда и улыбнулась. Его слова дышали такой непосредственностью и искренностью, что она простила ему недостаточно утонченную форму этого комплимента. Наступило минутное молчание. Затем лэди Файр снова подняла глаза, на этот раз с выражением печального ожидания.
— Ну, рассказывайте!
Он промолвил глухим голосом:
— Все кончено! Все пропало! Вы, вероятно, догадывались об этом по моему последнему письму и по сегодняшней телеграмме. Мы сдаемся завтра на капитуляцию без всяких условий — и это после всех этих недель борьбы и жертв. Это самый сокрушительный удар, который когда-либо был нанесен труду. А я ручаюсь головой, что еще неделя — и победа была бы за нами. Как это было тяжело! Я сегодня с шести часов утра на ногах. Вечером на митинге я делал, что мог — убеждал их горячо и страстно, но предо мною были мертвые люди. Некоторые даже проклинали меня. Они меня обступили после митинга и кричали: «Разве вы не знаете, что стачечный фонд истощен? Денег хватит на два дня». Я их умолял продержаться хоть бы эти два дня, но они качали только головами. Они хотели сдаться сегодня же. Но мне удалось уговорить их отложить до завтра. Мне было слишком тяжело оставаться — и я уехал.