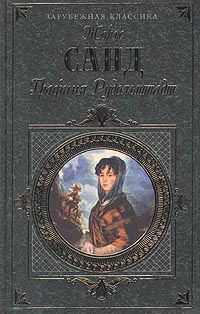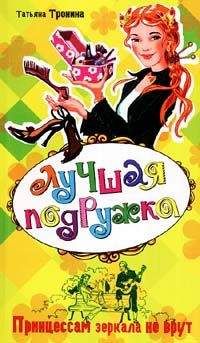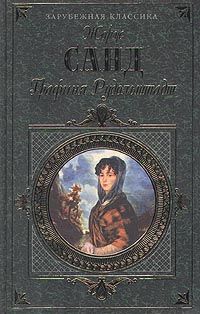— Я охотно сделала бы это, принцесса… — начала Порпорина.
— Принцесса? Кого ты имеешь в виду? — шутливо перебила ее принцесса Амалия.
— Я хочу сказать, милая Амалия, — ответила Порпорина, — что охотно сделала бы это, не будь в моей жизни одной тайны, очень важной, почти зловещей тайны, с которой связано все остальное, и никакая потребность открыться, излить душу не позволяет мне выдать ее.
— Так знай же, дорогое дитя, что она мне известна, твоя тайна! И если я не сказала тебе об этом в начале ужина, то единственно из страха совершить нескромность. Однако теперь я чувствую, что моя дружба к тебе может смело стать выше этого страха.
— Вам известна моя тайна! — вскричала пораженная Порпорина. — О, принцесса, простите меня, но мне это кажется невероятным.
— Штраф! Ты опять назвала меня принцессой.
— Прости, Амалия, но ты не можешь знать мою тайну, если только и в самом деле не поддерживаешь связь с Калиостро, как уверяют многие.
— Я давно уже слышала о твоем приключении с Калиостро и умирала от желания узнать подробности, но, повторяю, сегодня мною движет не любопытство, а искренняя дружба. Так вот, чтобы тебя ободрить, скажу тебе — с сегодняшнего утра я отлично знаю, что синьора Консуэло Порпорина может, ежели пожелает, носить на законном основании титул графини Рудольштадтской.
— Ради всего святого, принцесса… Нет, Амалия… Кто мог рассказать вам?
— Милая Рудольштадт, неужели ты не знаешь, что моя сестра, маркграфиня Байрейтская, сейчас в Берлине?
— Знаю.
— И с нею ее доктор Сюпервиль?
— Ах так! Сюпервиль нарушил свое слово, свою клятву. Он рассказал все!
— Успокойся. Он рассказал только мне, и притом под большим секретом. Впрочем, я не понимаю, почему ты так уж боишься предать гласности это дело — ведь оно обнаруживает лучшие стороны твоей натуры, а повредить уже никому не может. Все члены семейства Рудольштадт умерли, за исключением старой канониссы, да и та, очевидно, не замедлит последовать в могилу за своими братьями. Правда, у нас в Саксонии существуют князья Рудольштадтские, твои близкие родственники — троюродные братья. Они очень кичатся своим именем, но если тебя поддержит мой брат, то это имя будешь носить ты, и они не посмеют протестовать… Впрочем, возможно, ты все еще предпочитаешь носить имя Порпорины? Оно не менее славно и гораздо более благозвучно.
— Да, таково и в самом деле мое желание, что бы ни случилось, — ответила певица. — Но мне бы очень хотелось узнать, по какому поводу господин Сюпервиль рассказал вам обо всем. Когда я это узнаю и совесть моя будет свободна от данной клятвы, обещаю вам… обещаю тебе рассказать подробности этого печального и странного брака.
— Вот как это произошло, — сказала принцесса. — Одна из моих фрейлин заболела, и я попросила передать Сюпервилю, — а мне уже сообщили, что он находится в замке, при особе моей сестры, — чтобы он заехал посмотреть больную. Сюпервиль — человек умный, я знала его еще тогда, когда он постоянно жил здесь. Он никогда не любил моего брата, и тем удобнее было мне завязать с ним беседу. Случайно разговор зашел о музыке, об опере и, следовательно, о тебе. Я сказала ему о тебе столько лестного, что он — то ли желая сделать мне приятное, то ли искренно, — перещеголял меня и начал превозносить тебя до небес. Я слушала его с большим удовольствием, но заметила, что он чего-то недоговаривает; он намекал на какие-то романтические, даже захватывающие события, имевшие место в твоей судьбе, и на такое душевное величие, какого я, при всем моем добром к тебе отношении, якобы не могу себе представить. Признаюсь, я стала очень настаивать, и в его оправдание могу сказать, что он заставил долго себя упрашивать. Наконец, взяв с меня слово не выдавать его, он рассказал о твоем браке с умирающим графом Рудольштадтом и о твоем великодушном отречении от всех прав и преимуществ. Теперь ты видишь, дитя мое, что можешь со спокойной совестью рассказать мне все остальное, если у тебя нет других причин это скрывать.
— Хорошо, — после минутной паузы сказала Порпорина, поборов свое волнение, — этот рассказ неминуемо пробудит во мне тяжелые воспоминания, особенно тяжелые с тех пор, как я нахожусь в Берлине, но я отвечу доверием на сочувствие и интерес вашего высочества… то есть, я хочу сказать, моей доброй Амалии.
— Я родилась в одном из уголков Испании. Не знаю точно, где именно и в каком году это было, но сейчас мне двадцать три или двадцать четыре года. Имя моего отца мне неизвестно, и думаю, что моя мать тоже не знала имени своих родителей. В Венеции ее называли Zingara — цыганкой, а меня Zingarella — цыганочкой. Моей покровительницей, по желанию матери, стала Maria del Consuelo, что по-французски означает богоматерь Утешения. Первые мои годы прошли в бродяжничестве и нужде. Мы с матерью всюду ходили пешком и песнями зарабатывали на хлеб. Смутно припоминаю, что в чешских лесах нас радушно приняли в каком-то замке, где красивый юноша по имени Альберт, сын владельца замка, был со мной очень ласков и подарил моей матери гитару. Этот замок был замком Исполинов, и настал день, когда я отказалась сделаться его хозяйкой, а этим юношей был граф Альберт Рудольштадт, чьей супругой мне суждено было стать.
Десяти лет от роду я начала петь на улицах.
Однажды, когда я пела свою песенку на площади святого Марка в Венеции, перед входом в какое-то кафе, маэстро Порпора — он как раз находился там, — пораженный моим голосом, слухом и естественной манерой пения, которую я переняла от матери, подозвал меня, стал расспрашивать, проводил меня до моей лачуги, дал матушке немного денег и обещал ей устроить меня в scuola dei mendicanti , одну из тех бесплатных музыкальных школ, каких так много в Италии и откуда выходят все знаменитые артисты обоего пола, ибо ими руководят лучшие учителя. Я сделала там большие успехи, и вскоре маэстро Порпора очень привязался ко мне, что немедленно вызвало ревность и неприязнь других учениц. Их несправедливая злоба и презрение к моим лохмотьям рано приучили меня к терпению, выдержке и покорности судьбе.
Не помню, когда именно я увидела его впервые, но твердо знаю, что в семь или восемь лет я уже любила одного юношу, или, вернее, мальчика, заброшенного сироту, который так же, как я, обучался музыке благодаря чьему-то покровительству и состраданию и так же, как я, проводил на улице целые дни. Наша дружба, или наша любовь, ведь это было одно и то же, была целомудренным и восхитительным чувством. Невинные, мы вместе бродили по улицам в те часы, которые не были отданы музыке. Матушка, тщетно пытавшаяся разлучить нас, наконец согласилась признать нашу взаимную склонность, но, лежа на смертном одре, взяла с нас слово, что мы поженимся, как только будем в состоянии прокормить семью своим трудом.