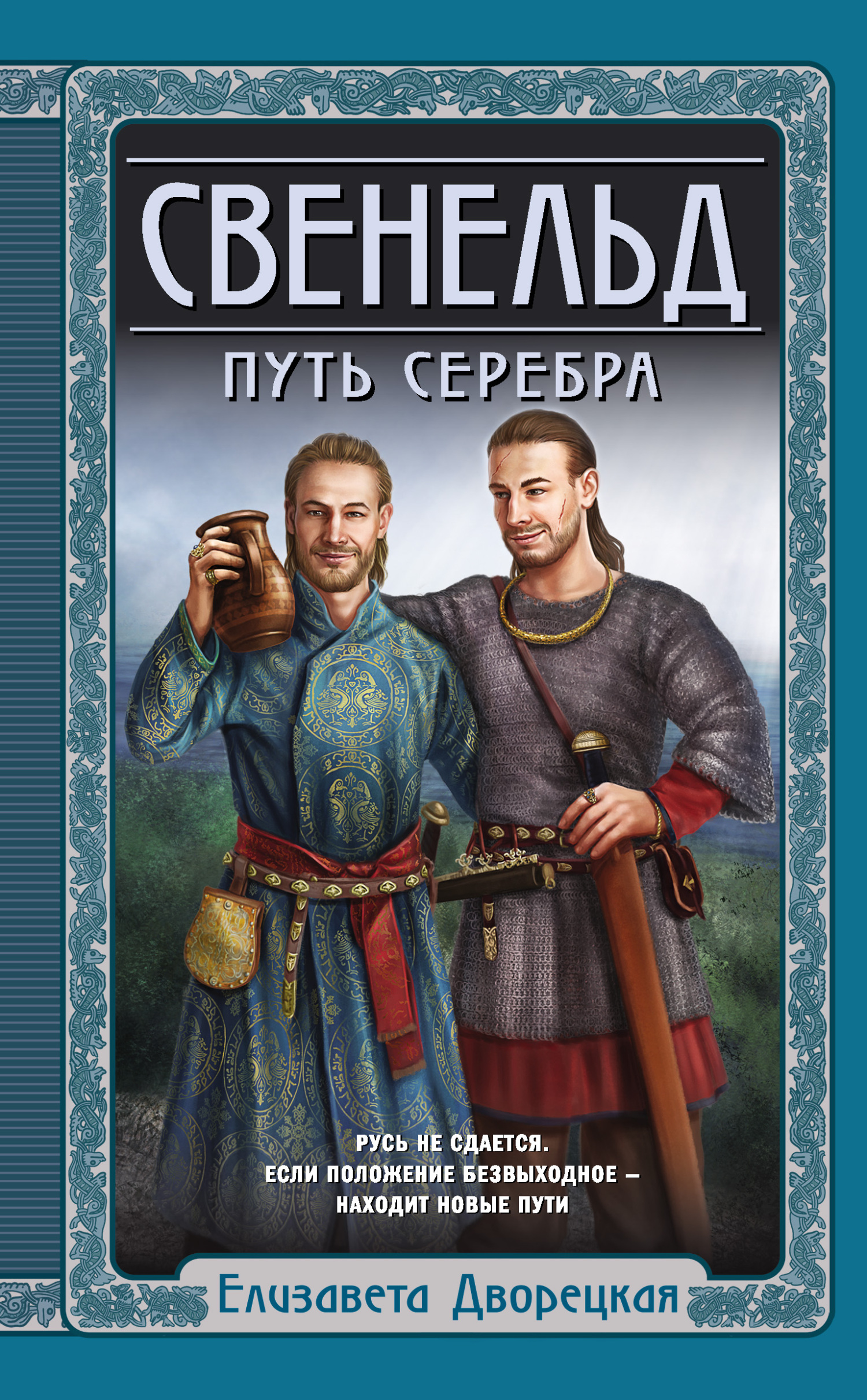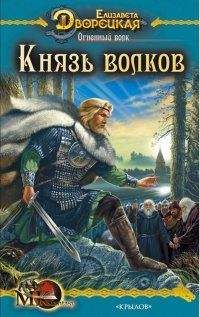слонами расставлены на бортах очагов, просто на столах – так же густо, как простые глиняные кринки с пивом и квасом. Отблески огня с очагов, из налитых воском светильников играли на бесчисленных серебряных боках, и казалось, что все эти львы, слоны, козлы, птицы и всадники трепещут, дышат, хотят сойти со своих сияющих полей в эту чужую страну, куда их привезли… Никто, не исключая Олава и Сванхейд, никогда не видел вокруг себя столько серебра сразу, и каждому, даже отрокам, сидящим на полу между столами, казалось, что они уже попали в небесные миры, в палаты богов, где сам Один или Перун поднимает рог во славу своих гостей. В этих волшебных палатах наряду с ними, живыми, незримо пировали их мертвые, гридница Олава и медовый покой Одина сливались в одно.
Молодой валькирии на пиру поначалу не было, но Олав кивнул жене, та ушла в шомнушу и вскоре вернулась, ведя с собой Ульвхильд. Молодая госпожа уже была одета в белое платье и резко бросалась в глаза в полутьме среди отблесков огня и серебра. Она шла неслышно, будто призрак, рожденный из этих отблесков, и стихли все голоса в палате, стал слышен даже треск огня. Лицо Ульвхильд было заплаканным, но почти спокойным. Когда миновало первое потрясение, она сумела взять себя в руки. Но хоть она и не плакала, не причитала, как делала бы на ее месте молодая славянская вдова, от ее тонкой белой фигуры веяло отчаянием. Глядя перед собой будто слепая – мертвецы слепы в мире живых, – она прошла к отцу и встала возле него.
– Второй рог мы поднимем в память моего зятя, Грима сына Хельги, – заговорил Олав. – Два славных, могучих рода соединились в нем, и сам он с юных лет показал себя достойным их наследником. С боевым щитом устремился он в дальние края, его удача, наравне с моей, вела людей в сражения, приносила им славу и добычу. Теперь он сидит за столом Одина, среди славнейших витязей былых времен. – Олав поднял глаза, словно и правда мог через кровлю и даль небес увидеть палаты Валгаллы и сидящих там. – Я знаю, в битвах эйнхериев и в грядущих сражениях Затмения Богов он покажет себя не хуже других. Выпьем за то, чтобы слава его жила вечно в наших потомках!
Он отпил и подал рог Ульвхильд; она прошла к очагу, прикоснулась губами к окованному серебром краю и отлила немного в очаг. Головни зашипели, взметнулся пар. Из глаз Ульвхильд снова потекли слезы – она будто вручила рог мертвому мужу, вновь взглянула в лицо своему несчастью. А Свен вдруг подумал: она – настоящая валькирия! Она вступила в брак с Гримом и тем самым избрала его на гибель, как это делали другие посланницы Одина. И пусть она не сама пожелала этого брака… воля богов творится руками людей, но помимо их воли, так оно и должно быть. Теперь ей остается, как в сагах, лишь горевать над мертвым. Погибни Грим где-то поблизости, получи родня его тело – Ульвхильд могла бы пожелать пронзить себя мечом над его курганом, чтобы вновь соединиться с ним…
В груди что-то оборвалось, стало зябко. Не повезло Гриму… Нет, нет! Свен отогнал эту мысль: погибнуть молодым и со славой – завидная участь. Однако для себя он предпочел бы то же самое, но попозже…
Свен покосился на Витиславу: на лице ее отражалась жалость, в глазах тоже блестели слезы. Жалела она больше свою подругу, чем Грима, которого и знала-то только в лицо. А она сама, подумалось Свену? Высотой рода Вито не уступает Ульвхильд… Что, если и в ней скрыта Избирающая Павших? Вспомнилась их странная «брачная ночь», лицо девочки на подушке, лежащий рядом с ней меч и отблески на клинке… После той ночи он нарек свой меч Стражем Валькирии. Оборвалось сердце от испуга: не навлек ли он в ту ночь на себя и юную невесту такие силы, которые лучше бы не будить?
По сути дела, она до сих пор – невеста… Брак их еще не состоялся… Что, если он только потому и уцелел – не то что бедняга Грим? Свен сидел, оледенев, не в силах отвязаться от жуткого ощущения, будто напротив него сидит его смерть – манящая, прекрасная, но неотвратимая. И ждет, когда он придет в ее объятия…
Тем временем Тьяльвар встал за столом, держа в руках лиру. И подвиги мало значат, если о них не сложены песни. Уже на обратной дороге Тьяльвар, лучший в дружине скальд, стал складывать песню в честь Грима и теперь, как свидетель, был готов поведать людям о доблести вождя.
Лун бортов немало
Грим собрал для рати,
Пива Гунн обильно
Поднесли в Дайлеме.
Щедрый пир валькирий
Сотворил в Гургане,
И в Арране густо
Стрел поток пролился.
Света вод довольно
Взял колец губитель,
Вепрей волн дружины
Льдом руки наполнил.
Подлый царь хазарский,
Жадный к ложу змея,
На Итиле снова
Пляску Скульд затеял.
Ран росы изрядно
Обронили русы,
Лебедь рати бледных
Пил чела сиянье.
Луны плеч трещали
В пляске лютой стали,
Дуб доспеха в брани
Строй разил хазарский.
Браги чайки Брюнхильд
Грим пролил немало,
Обагрились струи
Леса рыб в Итиле.
Диса стрел сказала
В кольчатом наряде:
Грима рать оружну
Ждет в Валгалле Один.
Горе Фрейе прялки –
Сгинул столб секиры.
Дождь щеки обронит
Хлинн котла в палате.
Плачут липы злата –
Пали клены стали.
Мы заботу змея
Привезли для Ульвхильд [7].
Люди слушали затаив дыхание. Будто подтверждая справедливость песни, по лицу Ульвхильд текли слезы. Звон струн и голос певца освятили ее горе, сделали слезы юной вдовы драгоценными, как всякая часть предания о доблести. Это горе равняло ее со знаменитыми женщинами древности, как сама песнь равняла Грима с теми давно павшими витязями, с которыми он теперь сидит в палатах Одина за одним столом.
– Ты должна наградить певца, дочь моя, – напомнил Олав среди потрясенной тишины, когда Тьяльвар закончил.
Отирая щеки, Ульвхильд встала, взяла со стола