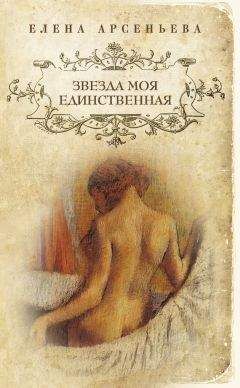И вдруг откуда-то сбоку, из-за низенькой дверки, послышался смех.
«Он там! – смекнул Гриня. – Там! И ржет как конь над нами над всеми! Сейчас зайду и скажу ему. Негоже, мол, стыдно, пусть фокусничает или…»
Он поглядел на свои кулаки, которые немало окрепли за полтора года нелегкой работы, и ухмыльнулся.
Гриня толкнул дверку и оказался в тесной каморке без окон, разделенной надвое занавеской. В углу стоял стол, заваленный каким-то тряпьем. На столе горела свеча. Из-за занавески доносилась какая-то возня и задыхающийся смех.
«Ну я ему сейчас!» – зло подумал Гриня и сделал крадучись несколько шагов к занавеске. Чуть отдернул ее – да так и остолбенел.
В углу стоял топчан, а на нем, освещенные свечой, прилепленной к ящику, заткнутому в угол, сплетаясь руками и ногами, возились в обнимку фокусник без штанов и девка-русалка без сорочки и без хвоста. Штаны, сорочка и хвост – большой хвост крупной рыбины, может, белуги – валялись на полу, но этим двоим было не до своих пожиток. Они не заметили даже Гриню, заглянувшего за занавеску и уставившегося на них.
А он смотрел и не мог оторваться… ноги словно вросли в землю, зато с телом его творилось неладное… раньше такое делалось с ним только ночами, когда в его снах появлялась легконогая звездочка и приникала к нему губами и всем тонким телом своим, доводя до исступления, а иной раз даруя сладостное и мучительное облегчение, – а теперь Гриня сам не знал, как с этим справиться.
Прикусив губу, чтобы не застонать и не спугнуть любострастников, он шагнул назад, осторожно опуская занавеску… и наткнулся на кого-то, стоящего сзади. Резко обернулся – позади стояла невысокая девушка в розовой кофтенке и синей юбке. Ее голубые глаза уставились в темные глаза Грини – и вдруг она засмеялась:
– Да ведь это ты!
Она словно бы у него с языка эти слова сняла. Он ведь уже почти воскликнул:
– Да ведь это ты!
Гриня не верил своим глазам, потому что перед ним стояла… она!
Та самая! Из дворца! Та самая! Звездочка!
Она глянула на Гриню исподлобья и перестала улыбаться. А потом внезапно обхватила его руками за шею и прижалась губами и всем телом, как прижималась в снах! И он мигом перестал думать и соображать, знал только, что она, она, она в руках его… вцепился в нее, сжал в объятиях, как сжимал во снах!
* * *
Мэри не раз пыталась найти ту янтарную трубку, но потом оставила эту затею. В самом деле, не будешь же бегать по всем комнатам и залам дворца и заглядывать в жардиньерки, которые после бала «Аладдин и волшебная лампа» разнесли по привычным местам в разных концах дворца. Да мало того, что заглядывать – ковыряться в земле. А если кто-то выследит ее? Ну, предположим, найдет она трубку – а вдруг ее кто-нибудь застанет в это мгновение? И это станет известно отцу…
Откровенный страх, которым наполнились глаза Барятинского, увидевшего трубку, произвел на нее впечатление. Пожалуй, лучше вообще об этой трубке забыть. Однако благодаря этому приключению она нашла хороший тайник для заветного ключа, которым когда-то открыла одну маленькую дверку… Сначала Мэри прятала его в самых неожиданных местах в комнате, но вредная Олли имела привычку рыться в ее вещах, и ей совсем не хотелось, чтобы сестра нашла этот ключ. Конечно, если спросят, откуда он, всегда можно отовраться, мол, нашла, но Олли ведь могла потерять ключ… а Мэри возлагала на него некоторые надежды. Поэтому она спрятала его в коробочку и закопала в одной из цветочных кадок, которые стояли в ее комнате. В этой кадке рос чудесный куст ее любимых чайных роз, и Мэри очень надеялась, что соседство с ключом не причинит им вреда.
Ей нравилось думать, что им можно когда-нибудь воспользоваться – в любую минуту. Нравилось думать, что это – ключ к некоей кратковременной свободе, которую Мэри может обрести в любой момент, когда захочет.
Конечно, обрести эту свободу было не так просто, как казалось. Одно дело – на минутку выскочить, оставшись никем не замеченной (тот крестьянский парень, оказавшийся на набережной, не в счет), и совсем другое дело – исчезнуть не на один час. Никто не знает, как нелегко хоть ненадолго избегнуть постоянного наблюдения и пристального внимания к своей персоне. Ну не смешно ли, что дочь властителя государства не имеет того, чем в избытке обладают ее подданные: свободного времени! То поездки куда-нибудь с семьей, то классы, то балы, то путешествия за границу, где за ней присматривают еще строже, чем дома… Иной раз жизнь бывает утомительна, а иной раз – так интересна, что и не хочется никуда сбегать. Сказать правду, мысль о кратковременном побеге посещала Мэри только иногда – когда снились смутные, бесстыдные сны. Так хотелось наяву испытать то, что грезилось… разум мутился, она забывала об осторожности и готова была душу дьяволу продать, только бы достигнуть желаемого… да, Мэри знала, что жаждет греха, что это чревато страшным скандалом, но смирять себя и свои желания не было у нее в привычке!
Поездка в Берлин, куда брала ее мать, чтобы показать своему отцу, королю Прусскому, еще больше опьянила Мэри. В Берлине с ней обращались как со взрослой: ведь там принцессы в пятнадцать лет, после конфирмации, переходят из рук воспитательниц в руки придворных дам. Мадам Баранова получила орден Святой Екатерины, а подросший и посерьезневший Матвей Виельгорский был назначен шталмейстером Мэри. Она похорошела: приятно было слышать разговоры об этом, больше всего полюбилась ей случайно услышанная фраза: «Бабочка выпорхнула из кокона». Все говорили, что ее сходство с императором еще усилилось: профиль к профилю она казалась его миниатюрой. Мэри гордилась этим, гордилась тем, что стала любимицей отца, он обожал ее искрящееся веселье, жизнерадостность, готовность быть любезной со всеми. Очень естественная, Мэри не выносила никакой позы и никакого насилия. Она по-прежнему позволяла себе пренебрегать этикетом, но делала она это так очаровательно, что ей все прощалось. Переменчивая в своих чувствах, жесткая, но сейчас же могущая стать необыкновенно мягкой, безрассудно следуя порыву, она могла флиртовать до потери сознания и часто доставляла своим поведением страх и заботы Александре Федоровне. Сама еще молодая, императрица радовалась успеху дочери у всех мужчин, на которых та кидала взгляд, но испытывая в то же время страх за нее.
Этот страх немало раздражал Мэри, потому что сковывал ее. О, конечно, она обожала родителей, конечно, заботилась о том, чтобы их не огорчать… но только не тогда, когда это мешало ею свободе. Однако страх перед их гневом был единственным, что сдерживало ее пылкую натуру, для которой безудержный флирт хоть с первым встречным был сейчас единственным выходом дать волю непристойным, мучительным чувствам, не сойти с ума от необходимости постоянно сдерживать их.