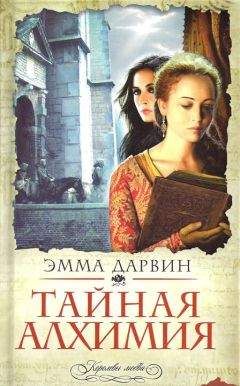Но для меня конец путешествия будет не таким, как для других, — он станет моим концом, концом моей жизни на этой земле.
Иногда я думаю, будет ли он таким, каким однажды привиделся мне. В день нашего паломничества в Кентербери меня окружали камни, а сверху лился золотистый свет. Откуда-то доносилось пение, оно вздымалось и опадало под сводами. Я пополз вперед на коленях. Каждый новый камень обдирал их все сильнее, каждый дюйм был испытанием моей силы, испытанием моего смирения, моего терпения, моего желания предложить все Богу. Боль и унижение, тело и душа слились воедино, предлагая себя там, в святилище мученика, который некогда предложил больше, чем я когда-либо смогу, который с готовностью отдал свое «я», чтобы погибнуть лютой смертью во имя Господа. Каким маленьким и слабым было мое подношение в сравнении с жертвой святого: моя короткая, юная жизнь!
Громадные камни пахли льдом и землей. Густой и резкий запах ладана, медленно высыхающего железа святой воды на моих губах, лбу и голой груди, вонь пота. Боль и жара начали звучать музыкой в моем мозгу. Я добрался до верха ступенек, и золотистый свет заклубился передо мной, как облако. Я мог бы двигаться быстрее, боль подгоняла меня спешить к таинству, к драгоценной гробнице, будто повисшей передо мной в воздухе, манящей и мерцающей. Рубины, слоновая кость, сапфиры и золото обрамляли немногие дошедшие до нас бренные останки, наполняли мои глаза и нос запахом, что звенел в ушах, как колокол, притягивал и очаровывал меня, оставив лишь одно желание: добраться до его сердца, до места упокоения святого Томаса, где боль и горе превратятся всего лишь в тень, в воспоминание о даре, который я некогда вручил Богу.
Уна — Среда
Лайонел стоит на платформе, когда мой поезд подъезжает к Сент-Олбансу. Если Иззи больше не похожа на художницу, то Лайонел ничуть не изменился: бизнесмен из Сити, почти удалившийся от дел только потому, что уже заработал столько денег, сколько мог пожелать. Все на нем добротное и ухоженное: твидовая куртка, отутюженная рубашка и безукоризненно завязанный галстук, тончайшие кожаные перчатки, ботинки, начищенные так, что их не устыдился бы кавалерийский офицер в отставке. Черные волосы красиво прилизаны на висках. Помню, я заметила, как Лайонел стал приобретать этот лоск, когда только начал работать в Сити, и это впечатление усилилось после его встречи с Салли.
Я так рада видеть Лайонела, но после путешествия на его фоне кажусь себе неряшливой и грязной, хотя у меня было время, чтобы помыться и даже выгладить рубашку, а во время получасовой поездки в полупустом поезде одежда не могла сильно запачкаться и помяться.
— Поездка была приятной? — спрашивает Лайонел, целуя меня в щеку.
— Дядя Гарет говорит, что мастерскую тоже придется продать, — не могу удержаться я.
— Дай-ка я возьму твою сумку. Да, знаю, это так стыдно. Надеюсь, ты не возражаешь против пешей прогулки. Это нечестно.
— Спасибо, я справлюсь сама, — возражаю я, крепко держа свою сумку. — Кроме того, там только зубная паста и чистые брюки. Она не тяжелая… А это и вправду необходимо — продавать мастерскую? — продолжаю я, когда мы прокладываем путь через толпу на Лондонскую дорогу. — Видел бы ты дядю Гарета. Не хочу быть мелодраматичной, но я и вправду думаю, что такая продажа его убьет.
— О, думаю, он куда крепче, чем кажется. Хотя он, конечно, сожалеет о мастерской. Но похоже, продать ее — единственный путь. А ты как? Была очень занята после приезда?
— Да, порядком. Ты же знаешь, что это такое.
— Обязательно извести, если я чем-нибудь могу помочь. У меня, конечно, нет полномочий устраивать дела в Австралии. Но если нужен совет…
Лайонел не обнял меня, как обняла Иззи, но я ощущаю, что он готов взяться за мои дела, если я попрошу, и во мне поднимается волна любви.
— Пока все идет хорошо, спасибо. Кстати, о Чантри: Иззи знает? Я не говорила с ней сегодня.
— Да, она знает.
— Она, наверное, совершенно убита. Она жила в Чантри дольше, чем любой из нас. Я всегда думала, что для нее и Пола было ошибкой съехать оттуда.
— Нельзя же винить мужчину за то, что он не хочет вечно жить с тещей и зятем.
— Полагаю, ты прав. Но неужели нет другого выхода? Я имею в виду — кроме продажи Чантри. Если не беспокоиться об Иззи, как же насчет дяди Гарета?
Мы пересекаем улицу Святого Петра в бодрой, обтекающей нас толпе покупателей.
— Я заставил своего юриста, ведущего дела по передаче имущества, перевернуть все вверх дном, — вздыхает, качая головой, Лайонел. — Нет, другого выхода не существует. Ты знаешь, что Спарроу-лейн — частная дорога?
— Да, так написано на табличках, и всегда было написано.
— Верно. Соседи уговорили владельца дороги перекрыть движение грузового транспорта. Но если мы продадим всю нашу собственность, то они смогут пользоваться задними воротами. Та боковая дорога — общественная, хотя и не покрыта асфальтом. Так что, боюсь, «все или ничего».
Это кажется бесспорным, и все же мне хочется спорить. Вряд ли я буду возражать. При других обстоятельствах было бы хорошо избавиться от последнего клочка моей английской жизни. Но сейчас это плохо, потому что это значит… Значит, что я избавлюсь от последнего клочка моих воспоминаний о Марке.
Марк?
После того как я увидела — его или его дух? — я не могу больше притворяться перед собой, будто это неважно и было давным-давно. Да, это было давно, но все-таки это слишком важно. Проблемы столь важные, приносившие некогда такую боль, не перестают существовать из-за того, что проходят года, из-за того, что я переехала на другую сторону планеты, из-за того, что мы с Адамом были счастливы.
В глубине моей душе что-то шевелится. Не ностальгия. Не печаль. Что-то маленькое, но свирепое, относящееся к сегодняшнему времени, не к прошлому.
— Итак, ты пишешь о Войне Роз, — говорит Лайонел, когда мы пересекаем Чекер-стрит, прокладывая путь сквозь толпу посыльных, инспекторов дорожного движения и туристов, направляющихся к аббатству, — Йорк, Ланкастер и все такое прочее. В твой труд входит битва при Сент-Олбансе?
— Наверняка входит, — отвечаю я, собираясь с мыслями. — Только не одна битва. Их было две: в тысяча четыреста пятьдесят пятом и тысяча четыреста шестьдесят первом годах. Первая была… Где тут рыночная площадь?
Лайонел показывает вперед.
— Первая была всего лишь перестрелкой, едва ли чем-то большим, но Генрих Шестой был тогда ранен в шею и взят в плен сторонниками Йорков. Вторая битва была куда кровопролитнее.
Лайонел аккуратно маневрирует, чтобы снова оказаться между мной и дорогой, эскортируя меня. Уж не знаю, что более эффектно — это или направляющая рука Лайонела каждый раз, когда мы проходим мимо фонарного столба и мой спутник отступает назад, чтобы я прошла первой. Адам был прекрасно воспитан, но его хорошие манеры скорее заключались в том, что один чуткий человек делает для другого, а не в этом уверенном, аккуратном танце «мужчина — женщине», который так же обольстительно ограничен, как те новомодные обтягивающие и тугие платья, которые тетя Элейн заботливо кроила и шила для Иззи.