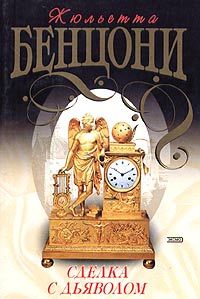Порой она откладывала книгу и безмятежно улыбалась воспоминаниям о своей любви. В такие минуты сердце ее наполнялось безумной отвагой, все было по плечу, и в молодой ее душе рождались новые надежды. Париж вдруг затихал…
Но как легко разрушить прекрасный миг душевного подъема… На этот раз дурные вести принесла Фелисия, в страшном волнении явившаяся в сад. В руках она держала большой конверт, запечатанный такой огромной печатью, что сразу становилось ясно: это официальное письмо.
– Его принес гонец из дворца, – выпалила подруга. – Это вам… Я бы уже давно вскрыла, так не терпелось прочитать, но все-таки решила, что это будет уж очень нескромно…
– И напрасно. Мы с вами в одной лодке, и то, что касается одной, не может не затрагивать другую. Давайте посмотрим, чего от нас хотят.
Письмо было пространное, но цель его обрисована достаточно четко. Оно исходило от маркиза де Дре-Брезе, придворного церемониймейстера. После обычных, принятых в таких случаях формул любезности он сообщал госпоже де Лозарг, что король будет рад, если ему представят ее в воскресенье тринадцатого мая, после воскресной службы в Тюильри. По случаю траура вышеназванной графини церемониал будет несколько изменен в части ее туалета: разрешается не надевать декольтированное платье. Также вместо тронного зала король примет ее в галерее перед часовней. Там же соберется все королевское семейство, и графиня будет представлена всем сразу, что позволит ей обойтись без блужданий по дворцовым апартаментам, неизбежных, если бы ее представляли каждому по отдельности. Но в остальном будет соблюдена обычная процедура: две попечительницы, госпожа д'Агу и госпожа де Дам, заедут за ней домой в придворной карете, а господин Абрахам, придворный учитель танцев, за несколько дней до церемонии будет иметь честь преподать графине несколько уроков и научит выполнять положенные по протоколу реверансы.
Прочитав до конца замысловатое послание, обе подруги замерли в растерянности, не зная, что сказать. Фелисия взяла письмо из рук подруги и, сдвинув брови, принялась его перечитывать. Первой нарушила молчание Гортензия:
– Меня? Ко двору? Что это может означать?
– По правде сказать, не знаю. Но что-то мне все это не нравится!
– Так, может быть, не ходить?
– Это невозможно. Никак не могу придумать, как бы вас от этого избавить.
– Но ведь я же могла… уехать обратно?
– Уже не получится, и, к сожалению, по моей вине. Гонец требовал вручить вам письмо в собственные руки, а я, даже не подозревая, о чем оно, сказала, что вы нездоровы и никого не можете принять.
– Вот и хорошо: я больна – раз, не в состоянии передвигаться – два, а в-третьих, не могу делать реверансы. Вот вам целых три повода.
Фелисия покачала головой.
– Если вас хотят видеть, то своего добьются. Пошлют к вам королевского лекаря для осмотра. Станут посылать своих людей проведать вас, и те доложат все как есть. Нет, единственный способ не ходить – это сегодня же вечером уехать. Вам, мне и всей моей челяди.
Гортензия побледнела.
– Вы хотите сказать, что мой отказ подвергнет вас опасности?
– Ну, до этого не дойдет. Но только ко мне ведь в Тюильри относятся без восторга. Госпожа дофина терпеть не может итальянцев, они все у нее ассоциируются с Наполеоном. Этим, впрочем, она оказывает нам честь. Кроме того, не забудьте, ведь мой брат в тюрьме.
Обе умолкли. По саду по-прежнему разносился птичий щебет, но подруги уже ничего не слышали. Перестали они чувствовать и ароматы цветов.
– Что мне делать, Фелисия? – спросила Гортензия. – Идти? Не знаю почему, но я боюсь.
– Не думаю, что вам стоит чего-либо опасаться в дворцовой карете. А еще менее того в Тюильри. Вас особенно не в чем упрекнуть, разве только что сбежали от свекра. Никогда не слыхала, чтобы даму арестовывали в день представления ко двору. Но я все же спрошу совета…
– У кого?
– У самой мудрой женщины в Париже. У герцогини де Дино. Мы дружны, и я знаю, что она выехала из своего замка Рошкот на Луаре, чтобы участвовать в торжествах в честь Неаполитанского короля. Хотите, поедем со мной? Она интереснейшая женщина из всех, с кем я знакома.
– Нет, Фелисия, благодарю. Вам известно: я не люблю бывать на людях и там буду чувствовать себя не в своей тарелке. К тому же положение у меня более чем странное. И вообще во всей этой церемонии представления ко двору самое ужасное для меня – выдержать взгляды присутствующих. До сих пор не могу забыть, как на меня глазели в день похорон родителей.
– Ну, как хотите.
Оставив подругу на скамейке у пионов, Фелисия убежала из сада. Гортензия услыхала, как она приказывает подать экипаж, затем в раскрытое окно кричит Ливии, чтобы принесла платье… И все стихло. Фелисия уехала.
Гортензия долго еще сидела в саду. Читать она была уже не в силах. «Мемуары современницы» соскользнули с колен и упали в траву. Гортензии казалось, что внутри у нее образовалась какая-то пустота: ни мыслей, ни чувств, ни желаний… и только очень хотелось заплакать. Вот уж нелепость! Приглашение в Тюильри – все-таки не смертный приговор, но уж слишком оно походило на приказ, чтобы можно было идти туда с радостью. Кроме того, во дворце уже знают, что она живет на улице Бабилон, а значит, там кто-то об этом рассказал. И этот «кто-то» наверняка был Сан-Северо.
Ей внезапно стало холодно, и она пошла в гостиную, где с приближением вечерней прохлады уже разжигали огонь. Лакей, молоденький блондин по имени Фирмен, слегка напоминавший ей Пьерроне, поднял голову, когда Гортензия подошла к камину.
– Госпожа графиня немного бледна, – заметил он. – Не пожелает ли она, чтобы я принес чаю?
– Нет, спасибо, Фирмен. Я просто озябла. Сейчас согреюсь у огня.
Пламя уже весело потрескивало в камине, и Гортензия, укутавшись в голубой теплый халат, стала понемногу приходить в себя. Огонь всегда был ее другом, ничто так не согревало ее душу и тело в тоскливые, холодные вечера в Лозарге, как приветливое языки пламени в очаге на кухне. Наверное, потому, что хранительницей того очага была старушка Годивелла, добрый гений их семьи. Маркиз удалил ее в тот момент, когда предложил Гортензии гнуснейшую из сделок, хотел сломить ее дух… Где была тогда Годивелла? Как объяснил ей маркиз бегство Гортензии? Наверное, выдумал что-то ужасное, снова пошел на черный обман… Вот только поверила ли ему Годивелла? У старой кухарки достало бы рассудительности не поверить… ведь Гортензия всегда считала, что Годивелла любит ее…
От Годивеллы мысли перескочили на сына. Тяжко же ей пришлось, если позволила себе подумать о нем, ведь обычно она гнала от себя воспоминания о малыше Этьене, чтобы не лишиться последних остатков мужества. На этот раз она позволила отчаянию проникнуть в сердце и воцариться в нем. Не в силах больше сдерживаться, Гортензия тихо заплакала.