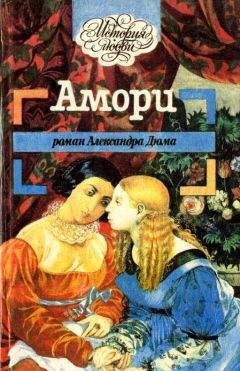Слепой, эгоист, я знал только, что Антуанетта беспокоит меня — меня! Но я не видел, что я стесняю их. Открыв для себя эту горькую истину, я уже действовал решительно и быстро.
Печальный, но спокойный и покорный судьбе, я поднялся на крыльцо и вошел в гостиную, объявляя о себе стуком своих сапог по ступенькам. Мадлен и Амори встали при моем приближении; я поцеловал Мадлен в лоб и протянул руку Амори…
— Знаете ли вы, мои дорогие дети, серьезную новость? — сказал я им. И хотя мой голос должен был дать им понять, что несчастье не было особенно велико для них, они вздрогнули одновременно. — Это то, что мне необходимо отказаться от моей прекрасной мечты о путешествии. Вы уедете без меня, король не хочет дать мне отставку, о которой я его сегодня просил: его величество имел доброту сказать мне, что я ему нужен, даже необходим, и попросил меня остаться. Что отвечать на это? Просьба короля — приказ.
— О, отец, как это плохо, — сказала Мадлен. — Ты предпочитаешь короля дочери!..
— Ну что вы, дорогой опекун, — сказал в свою очередь Амори, не умея скрыть под видимым огорчением свою радость, — отсутствуя, вы, тем не менее, всегда будете с нами.
Они хотели продолжить, но я сразу же сменил тему разговора или, скорее всего, я повел его в другом направлении; их невинная ложь причиняла мне ужасную боль.
Я объявил Амори, что хотел ему сообщить о миссии, полученной для него, и о том, что хотел сделать это приятное путешествие полезным для его дипломатической карьеры.
Он казался мне очень признательным за то, что я сделал для него, но в это время дорогой ребенок был поглощен единственной мыслью, мыслью о своей любви. Когда он удалился, Мадлен проводила его из гостиной. Случай сделал так, что я в это время очутился за дверью; я подошел к столику, чтобы взять книгу. Мадлен меня не видела.
— Ну, Амори, — сказала она, — веришь ли ты, что события нас опережают и подчиняются нам?.. Что ты скажешь об этом?
— Я скажу, — ответил Амори, — что мы не рассчитывали на честолюбие, а это так называемое честолюбие — удивительное чувство. Бывают недостатки, которые приносят больше благ, чем добродетели.
Итак, моя дочь поверит, что я остаюсь из-за тщеславия. Пусть будет так; возможно, так будет лучше.
С этого момента ничего не могло омрачить радость обоих молодых людей, и два или три дня прошли, освещенные улыбками на всех лицах, хотя два сердца из четырех были заняты единственной мыслью, которая, как только они оставались наедине, придавала их лицам истинное выражение.
Улыбающийся господин д'Авриньи, сохраняющий, тем не менее, опасение относительно здоровья Мадлен, не терял ее из виду ни на миг в то короткое время, что он проводил около нее.
С тех пор, как была назначена свадьба, по мнению всех, Мадлен чувствовала себя лучше и была грациознее, чем когда-либо; но отец и врач… он-то видел симптомы физической и душевной болезни, которые проявлялись в любое время.
Краски жизни вернулись на обычно бледные щеки Мадлен, но эти живые краски, как краски самого цветущего здоровья, выделялись на скулах немного больше, чем нужно, в то время как овал лица оставался очень бледным, сеть голубых вен, едва видимых у других, делала кожу девушки тонкой и прозрачной. Огонь, блестевший в глазах девушки, был для всех огнем молодости и любви; но среди этих искр, которые они весело бросали господину д'Авриньи, он узнавал время от времени темные вспышки лихорадки.
Весь день Мадлен, сильная и живая, весело прыгала в гостиной или бегала, как сумасшедшая, в саду. По утрам же, до прихода Амори, и вечером, после его ухода, вся эта девичья резвость, которая охватывала ее в присутствии возлюбленного, угасала, и тело девушки, такое слабое, гнулось, как тростник, прогибается под своей тяжестью, и искало точку опоры не только для ходьбы, но и для отдыха.
Кроме всего этого, Мадлен — всегда такая мягкая, полная доброжелательности — почему-то по отношению к одному человеку из всех, кто ее окружал, за эти семь или восемь дней очень странно изменилась; хотя Антуанетта, которую Мадлен приняла, как сестру, когда два года тому назад отец сделал ее компаньонкой, — оставалась той же для Мадлен, однако такой глубокий наблюдатель, как господин д'Авриньи, заметил, что Мадлен очень переменилась к Антуанетте.
Когда смуглая девушка с волосами, черными как вороново крыло, со своими полными жизни глазами, с алыми губами, — входила в гостиную, то эта сила молодости и здоровья, бьющая в ней, вызывала чувство инстинктивного страдания, похожего на зависть, в ангельском сердце Мадлен, и хотя она сама этого не осознавала, это чувство овладевало ею без ее ведома, и она ложно истолковывала все действия своей подруги.
Если Антуанетта оставалась в своей комнате, а Амори спрашивал об Антуанетте, в ответ на это простое свидетельство дружеского интереса он слышал несколько грубых слов. Если Антуанетта была рядом и Амори взглядом останавливался на мгновение на ней, недовольная Мадлен уводила своего возлюбленного в сад. Если Антуанетта гуляла в саду и Амори, не зная, что она там, предлагал Мадлен выйти в сад, Мадлен находила предлог, чтобы остаться в гостиной, ссылаясь то на жару, то на прохладу.
Мадлен, такая прелестная и любезная со всеми, была несправедлива по отношению к своей подруге, несправедлива, как избалованное дитя, не желающее иметь дело с другим ребенком, который ее стесняет или не нравится ей.
Но Антуанетта интуитивно, словно она находила поведение Мадлен естественным, делала вид, что не обращает внимания на те мелочи, какие в другое время ранили бы ее сердце и ее гордость; но, далекая от этого, она, казалось, жалеет Мадлен, прощая ее несправедливость. Антуанетта, которая должна была прощать, казалось, вымаливала прощение: это Антуанетта, когда Амори еще не было или как только он уходил, подходила к Мадлен, и та только тогда вдруг понимала насколько она несправедлива, и протягивала ей руку и даже иногда обнимала ее, готовая заплакать.
Звучал ли, однако, в глубине души обеих девушек голос, неслышный для всех, который говорил только с ними?
Часто господин д'Авриньи хотел просить прощения у второй дочери за несправедливость Мадлен, но как только он произносил первые слова, Антуанетта клала палец на его губы, и, смеясь, заставляла молчать.
Приближался день бала. Накануне обе девушки долго обсуждали свои туалеты, и, к большому удивлению Амори, Мадлен меньше занималась своим нарядом, чем нарядом своей кузины. Сначала, следуя своей привычке, Антуанетта предложила Мадлен одеться, как она, то есть в платье из белого тюля на сатиновом подкладе, но Мадлен считала, что розовый цвет больше идет Антуанетте, и почти сразу же девушка согласилась с мнением Мадлен, сказав, что она оденется в розовое. Больше об этом не говорили, казалось, все решено.