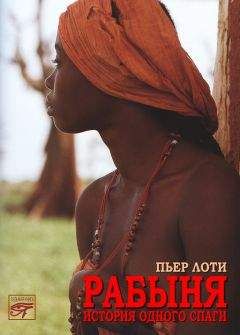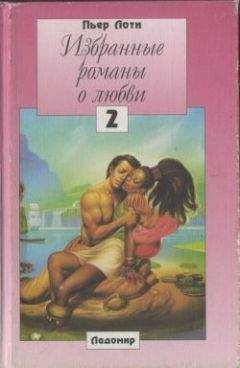Ему почудилось, будто подписан некий смертный договор с этой мрачной страной, погубивший его безвозвратно. И Жан бегом бросился в дюны — куда глаза глядят: хотелось перевести дух, побыть одному, а главное, как можно дольше не терять из виду убегавший корабль…
Когда Жан кинулся бежать, солнце стояло высоко и палило вовсю, расстилавшиеся вокруг пустынные равнины, залитые ярким светом, поражали своим величием. Долго шагал он вдоль дикого берега по песчаным гребням дюн и вершинам красных скал, чтобы видеть как можно дальше. Сильный ветер проносился над его головой, волнуя безбрежные просторы океана, где все еще виднелся пароход.
Голова гудела от мыслей, и Жан не ощущал обжигающих лучей солнца.
Два года оставаться прикованным к этой стране, когда можно было бы находиться сейчас там, на корабле, и плыть по океану к родным берегам!.. Боже, что за темные силы удержали его здесь, какие чары и амулеты!
Два года! Да будет ли когда-нибудь конец этому изгнанию, придет ли час избавления?..
Жан бежал на север, вслед за плывущим кораблем, стараясь не терять его из виду. Колючие растения впивались в него, на грудь градом сыпались обезумевшие кузнечики, которых он потревожил, пробираясь сквозь высокие травы…
И вот он совсем один среди суровой природы Зеленого мыса, угрюмой и молчаливой.
Впереди давно уже маячило большое одинокое дерево — больше баобаба — с густой темной листвой; такую громадину вполне можно было принять за случайно уцелевшего гиганта допотопного растительного мира.
Выбившись из сил, Жан рухнул на песок под огромным тенистым сводом листвы и, опустив голову, заплакал…
Когда он очнулся, корабль уже исчез и наступил вечер.
Пришел вечер и принес с собой тихую, холодную печаль. В сумерках большое дерево превратилось в нечто непроницаемо-черное, возвышавшееся над беспредельным африканским одиночеством.
Впереди — уходящая в бесконечную даль спокойная гладь умиротворенного океана. Внизу — скалы, идущие уступами до самого Зеленого мыса. Унылая картина окрестностей, изрезанных ровными лощинами без всякой растительности, наводила безысходную тоску.
Сзади, со стороны глубинных районов, насколько хватал глаз, — таинственные изгибы низких холмов, далекие силуэты баобабов, похожих на мадрепоровые кораллы.
И ни малейшего дуновения в застывшей атмосфере. Погасшее солнце опускается в тяжелую мглу испарений, его желтый диск, искаженный миражем, непомерно растет… Кругом на песке дурман раскрывает навстречу вечеру большие белые чашечки; их тяжкий, болезненный аромат наполняет воздух, и без того насыщенный тлетворным запахом белладонны. Ночные бабочки садятся на ядовитые цветы. Всюду в высоких травах слышится жалобный зов горлиц.
Африканская земля утопает в смертельных миазмах, горизонт стал неясен и темен.
Позади — таинственный внутренний мир, глубь Африки, заставлявшая прежде грезить Жана… Теперь же вплоть до самого Подора или Медине, вплоть до Галама или загадочного Томбукту нет ничего, что будоражило бы его воображение.
Печали и тяготы тех мест он и без того знает или угадывает. Мысль его далеко, и вся эта страна внушает только страх.
Жан мечтает лишь об одном — избавиться поскорее от всех этих кошмаров, уехать, уехать любой ценой!
Мимо бредут африканские пастухи со свирепыми, дикими лицами, они гонят в деревни тощие стада горбатых быков.
Солнечный лик, словно бледный метеор, похожий на библейское небесное знамение, медленно исчезает. Ночь… Окрестности окутывает темное клубящееся марево, и наступает полнейшая тишина… Под сенью большого дерева — точно под сводами храма.
Жан думает о родительской хижине в такой же вот вечерний летний час, о старой матери и невесте, ему кажется, что всему пришел конец, и снится, будто он умер и никогда больше их не увидит…
Судьба его была решена, оставалось лишь следовать ее предначертанию.
Через два дня Жан сел вместо своего друга на маленькое военное судно и отправился на далекий пост Гадьянге в Уанкарахе. Дабы укрепить этот затерянный пост, туда посылали небольшой отряд и снаряжение. А в округе положение осложнялось: начались распри между негритянскими племенами во главе с алчными королями-грабителями; караваны больше не появлялись. Полагали, что волнения улягутся к концу сезона дождей, и Жан надеялся, что через три-четыре месяца, согласно обещанию, данному спаги Буайе комендантом Горе, его снова направят в Сен-Луи, где он и дослужит свой срок.
На маленькое судно набилось много народа. Фату, настойчивостью и хитростью получившая разрешение, тоже пробралась на корабль, выдав себя за жену черного стрелка, и следовала вместе с другими, прихватив четыре калебаса со всем своим скарбом.
На борту находились и спаги — около десятка — из гарнизона Горе, которых направляли на один сезон стать лагерем в глухом краю. А кроме них, двадцать туземных стрелков с семьями.
Причем семейства у них, надо сказать, были прелюбопытные: по нескольку жен и детей на каждого; в качестве пропитания везли просо в калебасах; одежда и посуда тоже помещалась в калебасах; среди груза была еще груда амулетов и куча домашних животных.
При отплытии на борту поднялась ужасная суматоха, началась давка. На первый взгляд казалось, что с такой массой людей и вещей никогда не разобраться.
Однако вскоре все уладилось; через какой-нибудь час пути пассажиры превосходно разместились и успокоились. Завернувшись в набедренные повязки, негритянки мирно спали на полу на палубе, тесно прижавшись друг к другу, словно рыбки в консервной банке, а корабль плыл себе потихоньку на юг, углубляясь постепенно в еще более жаркие, голубеющие дали.
Спокойная ночь в тропических просторах океана.
В абсолютной тишине слышен даже самый легкий шелест ткани; временами на палубе стонет во сне какая-нибудь негритянка, людские голоса кажутся нестерпимо громкими.
Теплое оцепенение сковало все вокруг. В застывшей атмосфере — поразительная неподвижность уснувшего мира.
Молочного цвета фосфоресцирующий океан кажется огромным зеркалом, отражающим ночь с ее раскаленной прозрачностью.
Можно подумать, будто два зеркала глядятся друг в друга, до бесконечности повторяя свое отражение, а вокруг — пустота: горизонта не видно. Вдалеке водная гладь и небеса сливаются воедино, растворяясь в неясных, бесконечных, космических глубинах.
Луна — огромный огненно-красный шар без лучей — висит совсем низко, утопая в сероватом, светящемся тумане.
В доисторические времена, до того, как свет был отделен от тьмы, все, должно быть, пребывало в таком же точно спокойном ожидании. Минуты передышки между творениями хранили, верно, такую же невыразимую недвижность, пока миры еще не сгустились, а свет был рассеянным и неопределенным, пока нависшие тучи состояли из несотворенных в ту пору свинца и железа, а любая вечная материя сублимировалась нестерпимым жаром первобытного хаоса.