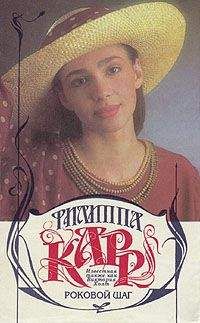— Я ходила на крытый рынок с корзиной в руке, — вспоминала Эмма. — Мама говорила, что я лучше ее умею торговаться. Я была проворная, я была… как это сказать?..
— Безжалостная? — предложила я.
— Безжалостная, — повторила она. — Я умела купить подешевле и сэкономить деньги.
— Могу себе представить.
— Значит, ты считаешь меня… ловкой, сестричка?
— Не просто считаю. Я это знаю.
— Почему ты так говоришь? — довольно резко спросила она.
— Это как раз то, что я поняла.
Эмма легко обижалась, вероятно потому, что плохо понимала английские выражения. Я думала, ей понравится, что я отметила ее ловкость и умение.
— Мы были бедны, — сказала она, оправдываясь, — Нам надо было беречь каждое су. Когда наш отец умер, все изменилось.
— Его смерть повлияла на всех нас, — напомнила я ей.
Мне было кое-что известно о бедности на улицах Парижа. Я рассказала сестре о подвале, и ужас пережитого снова нахлынул на меня.
— Однако, у тебя была добрая тетя Дамарис, которая спасла тебя.
— А у тебя была мать.
— Но нам трудно жилось. Не очень-то утешает жизнь в богатой семье, если когда-то ты была так бедна, что не знала, где достать еды. Подобная бедность не забывается.
— Это верно, — ответила я.
— Ты ценишь это… находишь это хорошим… Деньги приносят комфорт. Ты сделаешь все, чтобы получить их… и удержать…
— Меня приводит в ужас одна мысль о возвращении в тот подвал.
— Жанна позаботилась о тебе, да?
— Что бы я делала без нее, не могу представить. Я оставалась бы там… Или, может быть, умерла бы от голода или еще чего-нибудь.
— Это научило тебя, что такое бедность… и это хороший урок, который заставит тебя понимать тех, кто страдал.
— О да, я согласна. Расскажи мне об отце. Ты часто его видела?
— Да. Он часто приходил к нам.
— Моя мать не знала об этом…
— Дорогая моя сестра, мужчина не сообщает одной любовнице, когда он идет к другой.
— Я уверена, что моя мать даже не представляла себе ничего подобного.
— Это так. Но мы знали, что он жил с ней. Мы не могли не знать. Она занимала положение госпожи. Видишь ли, Хессенфилд был как король. Он делал то, что хотел.
Я попыталась вспомнить маму, и хотя воспоминания были туманными, мне трудно было поверить, что она сознательно могла находиться в такой ситуации.
Эмма же воспринимала это как шутку.
— Я на четыре года старше тебя, — сказала она, — и многое могу вспомнить. Она выглядела несколько… как это сказать… неуместным в наших комнатах на улице Сен-Жак. Мы много лет жили там над книжной лавкой. — Она сморщила нос. — И я до сих пор чувствую запах книг. Некоторые из них не очень хорошие… не очень хорошо пахнут. Отец заполнял собой всю нашу комнату, когда находился там. Он был такой импозантный; глядя на него, мы чувствовали себя жалкими нищими… но он, казалось, не замечал этого, потому что был так счастлив видеть нас. Он брал меня на колени и называл маленькой красавицей. Я почувствовала себя такой одинокой, когда он умер. Это были несчастные годы. Мы стали жить бедно. Правда, продавец книг был добр к нам. Мама работала у него в лавке, я помогала. Мы могли бы продать кольцо и часы, но мама сказала: «Нет, никогда. Придет день, и ты поедешь в Англию. Когда война кончится…» Потом она вышла замуж, а я поехала в Англию. Я стала не нужна ей, ведь у нее теперь новая семья. А я нашла свою, не правда ли? Дядя Пол хорошо относится ко мне. Если бы я не была его племянницей, то вышла бы за него замуж. А потом я нашла и сестру.
Ей нравилось раздражать меня, постоянно напоминая о том, что я незаконнорожденная. Но ведь она тоже была такой.
— Внебрачные дети — дети любви, — сказала Эмма однажды. — Это звучит романтично, правда? Я ничего не имею против того, что я незаконнорожденная… пока моя семья заботится обо мне.
Она призналась, что вид господ, разъезжающих в своих экипажах, вызывал у нее жгучую зависть. Еще она видела, как титулованные вдовы в портшезах отправлялись на утреннюю мессу. И она не слишком завидовала, ибо они были старые, а стать старой — это страшно. Эмма всегда хотела быть леди в экипаже, с наклеенными мушками, в парике, напудренной и надушенной; хотела ехать по улицам, разбрызгивая парижскую грязь на прохожих и привлекая внимание таких же элегантных молодых людей в экипажах, останавливаться, с лукавым видом назначать свидания, посещать театры, вызывать восхищение мужчин и зависть женщин. Жизнь в Париже была куда более интересной, чем в Хессенфилде, но Париж означал нищету, а Хессенфилд — богатство.
Хотя прошла всего одна неделя, я чувствовала себя так, будто уже давно живу в Хессенфилде. Мои беседы с дядей Полом и Эммой способствовали тому, что я осознала себя частью этого места. Нередко приезжали дядя Мэтью и Ральф, а также другие люди, в основном мужчины. Иногда они обедали с нами, причем я замечала, как они осторожны в разговорах. Я поняла, что напряжение, замеченное мною по прибытии, скорее возросло, чем ослабилось.
Однажды я вошла в комнату дяди. Он сидел в кресле, его колени были укрыты клетчатым пледом. Я увидела бумаги, соскользнувшие на пол. Он уснул и уронил их. Листочков было, кажется, шесть, некоторые лежали немного в стороне от кресла. Я в нерешительности остановилась, затем тихо подошла и подняла один из них.
Меня охватило изумление. Это был портрет очень красивого мужчины. Наверху было написано: «Яков III, король Британии». Внизу перечислялись достоинства этого, истинного короля и объявлялось о том, что скоро он вернется и предъявит права на королевство. Когда он это сделает, его народ должен быть готов выразить свою лояльность к нему. Я почувствовала, как кровь бросилась мне в голову. Это же измена нашему королю Георгу! Я подняла глаза. Дядя Пол смотрел на меня.
— Ты, кажется, озадачена тем, что прочитала, Кларисса, — сказал он.
— Я их нашла на полу…
Я начала собирать листочки и при этом не могла не заметить, что они все совершенно одинаковые.
— Они соскользнули с колен, когда я задремал, — сказал дядя.
— Это же… измена, — прошептала я.
— Да, верно, можно назвать это и так. Тем не менее, в определенных местах эти листки имеют хождение.
Я содрогнулась.
— Если о них узнают… Он медленно сказал:
— В Шотландии много сторонников Якова. Некоторые члены парламента, люди, занимающие высокие посты, поддерживают его.
— Да, я знаю. Мой прадедушка много говорил о Болингброке и Ормонде… и о других подобных.
— Дай мне листы. Думаю, их надо закрыть в ящик, не правда ли? Положи их туда, пожалуйста. Благодарю.
Он стал говорить о других вещах, но я поняла, что происходит что-то очень опасное. Конечно, в Хессенфилде все якобиты. Мой отец был лидером якобитов. Поэтому он и оказался во Франции… он делал все, чтобы вернуть короля Якова на трон. Этот Яков теперь умер, но есть еще один Яков — его сын.