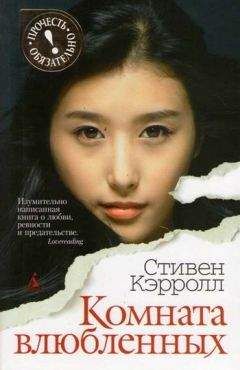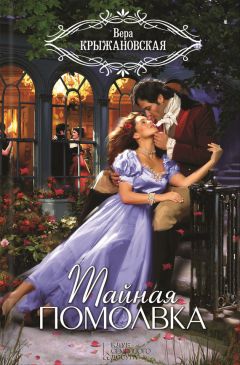– Никто тебя к этому не принуждает, милая моя, – сказал старый граф, с неудовольствием. – Этот восторженный панегирик убеждает меня, что «мощная натура» господина Мейера покорила и тебя так же, как Валерию, и что ты была бы рада играть роль в скандальной хронике. Не забывай только, что имя и репутация твоего мужа тоже подвергнутся злословию. Я всегда считал тебя рассудительнее Валерии, и как замужняя женщина ты должна была бы еще лучше все понимать, а ты, к моему великому удивлению, девичьи мечтания, романтические бредни пансионерки, которая интересничает ролью героини и, для большего эффекта, непременно желает пристегнуть и несчастную любовь, оправдываешь.
– Ты не прав, папа, – спокойно и серьезно ответила она, – обвиняя меня в легкомыслии, и думаю, что слишком много придаешь значения светской болтовне. Я сама люблю и потому понимаю, как трудно вырвать из своего сердца образ любимого человека. Каким бы глупым не казалось такое чувство людям рассудительным, оно так упорно, что если его вырвать насильственно, то в душе образуется пустота, которую ничем не заполнишь. Я знаю, что если бы попытались разлучить меня с Рудольфом, то я защищала бы свою любовь до смерти, и не считала бы себя от этого безумной.
Осчастливленный ее словами, Рудольф схватил руку жены и признательно поцеловал, а старый граф с улыбкой взглянул на них.
– Положим, что я был немного резок но, дитя мое, я в свою очередь замечу тебе, что твоя любовь такова, что свет и родители охотно поддержат и благословят. Другое дело Валерия: я продолжаю утверждать, что чувства ее – вредные мечтания, лишь равенство происхождения и общественного положения дает прочное счастье. Поэтому мой долг – спасти ее от непоправимого безумия.
Валерия вернулась в свою комбату взволнованная, голова ее кружилась, и сердце мучительно сжималось; обессиленная, она упала на диван и разразилась рыданиями. Когда прошел этот первый приступ скорби, она стала обдумывать свое положение. Вокруг нее все было темно и мрачно, она должна была бороться: ведь она клялась Самуилу доказать, что не стыдится его, что глубокая соединяющая любовь будет служить ей наградой за ложные убеждения и презрение света. Но как тяжела борьба против своих близких! С глубоким вздохом взяла она надетый на нее медальон. Большие темные глаза Самуила, казалось, глядели на нее с упреком, напоминая данную ею клятву. Невольно она стала сравнивать этих двух людей, между которыми должна была сделать выбор, и нежное лицо Рауля, его бархатные задумчивые глаза померкли перед этим бледным, мужественным лицом, его пламенным взглядом и строгими устами, которые словно говорили: «Никакая борьба не заставит меня отступить».
– Нет, нет, Самуил, я останусь тебе верна, – шептала она, прижимая портрет к губам. – Чувство Рауля – минутная вспышка, первая любовь, которая угаснет так же быстро, как появившаяся ракета. Он скоро забудет меня; но для тебя, Самуил, потерять меня, было бы смертельным ударом.
Легкий стук в дверь заставил ее вздрогнуть.
– Войдите, – сказала она, пряча медальон.
При виде отца она встала в волнении.
– Садись, дитя мое, – сказал граф, опускаясь подле нее на диван, – и будь спокойна. Богу известно, как мне тяжело видеть твои слезы, как отец, я обязан поговорить с тобой еще раз, прежде чем ты оттолкнешь от себя окончательно твое действительное счастье ради воздушных замков, о которых грезит твоя молодая душа. Я не хочу насиловать твою волю, я хочу только, опираясь на мою опытность, представить тебе в настоящем свете то, на что ты смотришь ошибочно, а мешкать с этим нельзя. Ты уже не ребенок, и как умная дочь поймешь меня. Каждый человек должен жить настоящей деятельной жизнью, а не в мире иллюзий, и эта действительность требует, чтобы мы подчиняли наши чувства рассудку. Общество, к которому мы принадлежим по рождению и нашему воспитанию, налагает на нас обязательства, которые мы не можем безнаказанно нарушить. Уважаемое, ничем не запятнанное имя, завещанное нам предками, мы обязаны передать во всей чистоте нашим потомкам; девушка твоего положения не может располагать своим сердцем как какая-нибудь мещанка… Твой непонятный выбор возбудил бы общее внимание, и если бы обнаружилось положение наших дел, все показывали бы пальцем на твоего отца и твоего брата. Не перебивай меня, Валерия. Ты хочешь сказать, что пожертвовала собой в первый раз, чтобы спасти нас от позора? Все это правда, и перед твоей совестью у меня нет оправдания. Преступный отец, безумный расточитель, я загубил будущность своих детей и, конечно, для спасения собственной жизни не принял бы наглых условий ростовщика, и ни одной минуты не позволил бы тебе быть его невестой. Но дело касалось также и Рудольфа. Колеблясь между вами двумя, я пожертвовал тобой, мое бедное дитя. Рудольф, молодой и влюбленный, в этом видел спасение, но чего стоили эти два месяца твоему отцу, про это говорят мои поседевшие волосы. Присутствие этого человека в нашем доме, каждая его улыбка, каждое его фамильярное слово, обращенное к тебе, были для меня ударом в сердце. Совесть моя кричала мне: «Ты виноват, ты продал свою дочь!» Все время я искал выхода из этого положения и не пережил бы дня твоей свадьбы.
Валерия глухо воскликнула:
– Отец, что ты говоришь!
– Правду, дитя мое. Неужели действительно ты могла думать, что я буду в состоянии перенести весь этот скандал, злорадное любопытство и насмешки моих завистников? О, никогда, никогда! Нет, лучше умереть! И можешь себе представить, что я чувствую, видя, что судьба посылает нам приличный исход, а ты отталкиваешь его, не хочешь отказаться от человека, с которым не можешь быть счастливой, так как твой брак с ним был бы нашим общим позором. Подумай об этом, дорогая моя, уважь просьбу твоего старого отца и избавь его от горя, которое отравит последние дни его жизни.
Граф замолчал, но две слезы скатились по его щекам, и в голосе его слышалось столько ласки и отчаяния, что решимость Валерии не устояла. С детства она обожала отца и с душевной тревогой глядела теперь на поседевшую голову графа, на глубокие морщины на его лице, еще недавно столь довольном и приветливом. Сердце ее тоскливо сжалось.
Что, если, в самом деле, разрушение новых надежд отца приведет его к самоубийству. А если и она принесет в жертву отца, как Самуил принес своего, какое счастье могло расцвести на могиле двух старцев? Глухо зарыдав, Валерия бросилась на шею отцу.
– Нет, нет, папа, живи для меня и будь счастлив! Я надеюсь, что бог не вменит мне в грех мою измену. Я отказываюсь от Самуила и выхожу за Рауля.
– Да благословит тебя бог! – прошептал тронутый граф, прижимая ее к своей груди.