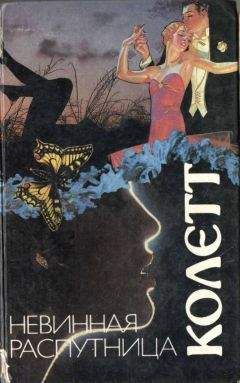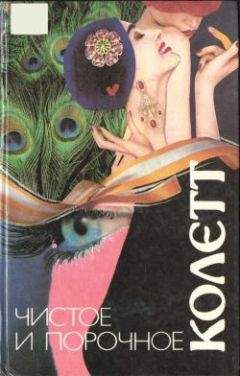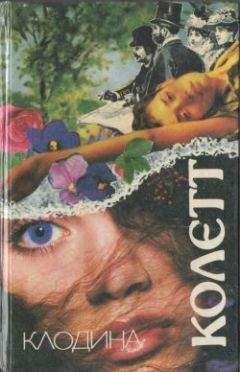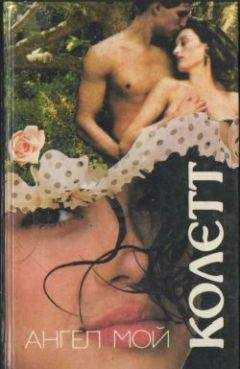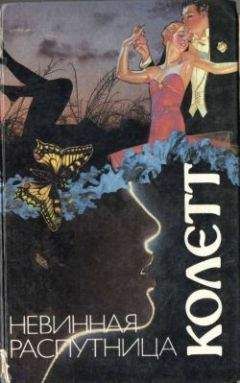Мне не было больно, когда Рено стал ходить за ней от файф-о-клока до afternoon tea.[10] Она ведь на меня совсем не похожа!.. Я изошла бы кровью и слезами, если бы мой муж влюбился вдруг в такую же, как я, страстную в глубине души молчальницу, чья страсть заглушена ленью, с такой же созерцательной, беспокойной натурой, но только моложе и красивее меня…
Но Сюзи! Не ей затмить Клодину! Сюзи, любительница флирта, рискованных ласк под длинной скатертью, всеядная и лживая Сюзи, у которой расписание свиданий напряжённей, чем приём у дантиста, нарочито практичная Сюзи, умело бравшая на вооружение знаменитую своей оригинальностью мысль такого-то художника или такого-то романиста и обряжавшаяся в неё с важным видом, словно маленькая девочка в длинную юбку…
Для неё, для красотки Сюзи, растрачивал себя Рено со страстью новообращённого, пренебрегая моими мудрыми советами. Я неустанно твердила ему: «Она красива, что вам ещё?.. Научите её почаще молчать, и она приблизится к совершенству…» А потом смеялась, когда мой муж принимался защищать Сюзи, утверждать, что у неё тонкая натура, острый, совсем латинский ум, что ей знакомы достойная почтения меланхолия и отвращение к снобизму… Это у Сюзи-то меланхолия! Меланхоличная, полная благородного стремления к лучшему мирозданию кобыла, гордая своими помпонами и плюмажем!..
(Я помимо своей воли немного утрирую. Меня подогревает запоздалая ревность, когда я вспоминаю, сколько Рено потерял часов, растратил дней на свидания с Сюзи, лишив меня возможности его видеть.)
Любовное апостольство моего супруга привело его к замечательному плану взять Сюзи на лето того самого 19.. года с нами в Байройт.[11] Я чуть не расплакалась, потом чуть не рассмеялась, и, наконец, разумно рассудила, к чему должна привести такая идиллия, и поняла, что именно там Сюзи сама себя уничтожит…
И вот я во второй раз оказалась, без всякой радости, в маленьком городке, где даже дождь с угольной пылью, где измученная одиночеством Анни склоняла когда-то голову мне на плечо в Маргравском саду… Снова на столе это кошмарное mit compot,[12] а в стаканах слишком хорошее, зато ледяное пиво. Снова эта нелепая постель – враг сна и любви: простыни короткие, матрацы из трёх отдельных частей, не кровать, а гроб, который на день закрывают крышкой-покрывалом, обтянутой набивным кретоном… О эти франкские[13] постели! К каким только ухищрениям вы не заставили меня прибегнуть, вы, принуждающие добывать наслаждение с помощью акробатики!
Для Сюзи Рено выбрал маленькую старомодную весёлую квартирку, чьи окна, украшенные розовой запылённой геранью, выходили на Рихард-Вагнер-штрассе, нагретую и пустынную. Впрочем, что я говорю – пустынную!.. Дважды в день по ней проходил баварский полк: крепкие ребятки в грязно-зелёном на здоровенных рыжих битюгах, славные бульдожьи морды кирпичного цвета между каской и малиновым воротничком…
Словно в моментальном снимке, где чётко пропечаталась каждая деталь, я снова вижу эти два окна и облокотившуюся на подоконник Сюзи… Она с непокрытой головой, каштановые волосы, скрученные в замысловатую раковину, отливают на полуденном солнце золотом, Сюзи легла грудью на скрещённые руки и чуть приплюснула её, на ней свободное платье из ткани с розовыми и жёлтыми шишками, маленький носик морщится от усилий – она старается не закрывать глаза от режущего света… За ней, совсем близко, вырисовывается тёмным на белом фоне комнаты высокий силуэт Рено. Он не смеётся, потому что полон желания. А она хохочет, нагнувшись ещё сильнее, когда раздаётся цокот копыт и к ней поднимается облако пыли, запах кожи, шерсти, потных мужчин… Она хохочет, и распаренные солдаты вторят ей, задрав морды и обнажив зубы… Она совсем ложится на руки, запрокидывает голубиную шею и шепчет: «Надо же, мужчины… Смешно, столько мужчин сразу…» Её прекрасные глаза кофейного цвета встречаются с глазами моего мужа, и она тут же отводит взгляд, теперь мы строги и безмолвны, словно трое незнакомцев, которых свёл здесь случай. Да, я хорошо помню тот решающий час! Я совершенно отчётливо видела, как между Рено и Сюзи возникло Желание, секунду помедлило, распростёрло крылья и в испуге улетело – так спасается малая пташка, с ужасом заметив тень хищной птицы… А ведь я прятала свой взгляд, сдерживала в самой глубине себя убийственную мысль, дрожащую от нетерпения, но послушную, как вышколенный охотничий пёс, ожидающий знака хозяина… Я не подала знака… Зачем? Тот, кого я люблю, должен жить на свободе, в умиротворяющей иллюзии свободы… Каждый день после той тревожной минуты Рено мог видеть и обожать свою Сюзи, любоваться ею, упиваться её певучим акцентом, распушёнными перьями, изменчивым ароматом – она мешала духи как придётся, но все ей шли, и сладкие, и терпкие, – присутствовать в неубранной спальне при завершении её пленительного туалета…
В полдень я героически отправляла его к Сюзи, и он неизменно находил её среди разбросанного белья, оставленных в беспорядке тазов, растерзанных чемоданов… Я знала, что она встречала его полусмущённым-полурадостным «А!» и с нарочитой неловкостью застёгивала юбку… Я видела, как она, склонившись к зеркалу, но не глядя в него, рисует двумя точными движениями губы, взбивает шевелюру, пудрится, всё так же не глядя, – так орудовала бы ловкая обезьяна, если бы её научили пользоваться косметикой… Я прекрасно видела – куда лучше Рено – деланную поспешность, деланный беспорядок, деланную задумчивость Сюзи: она хмурилась, глаза её темнели, и в них появлялось такое трепетное волнение, какое, думалось невольно, можно объяснить только чувством вины…
Я и вправду видела всё это сквозь стены ещё до того, как Рено решился мне всё рассказать… Бедный дурачок, он-таки попался в ловушку моего доверия и спокойствия, хотя, судя по тому, какую боль я испытала после его первой исповеди, мне так много и не было нужно…
Я вела себя героически, просто героически, и это не преувеличение! Я вынесла немо, словно какая-нибудь посторонняя экономка, все «уроки тетралогии», помогавшие Рено обманывать своё нетерпение и которые Сюзи усваивала в молчаливом восхищении, впившись глазами в доброжелательные глаза апостола с седыми усами… Однажды я даже едва сдержалась, чтобы не изуродовать её, заметив, что она не слушает Рено, а следит потемневшим взглядом за движениями его губ… Прочь, прочь! Пусть останется в воспоминании лишь то, какая меня охватила молчаливая радость, какое бешеное желание вопить от восторга, в тот вечер, в тот прекрасный вечер, когда мы слушали «Парсифаля»…
Мы сидели в ресторане театра, неудобном зале, пропахшем соусом, пролитым пивом, плохими сигаретами, и дожидались, пока наконец чуть тёплый венский шницель доплывёт до нашего столика через головы изголодавшихся до ужаса после четырёхчасового спектакля людей…