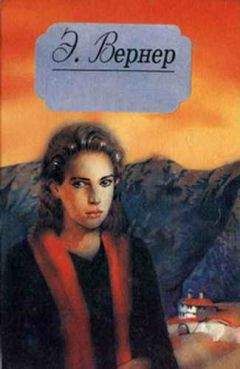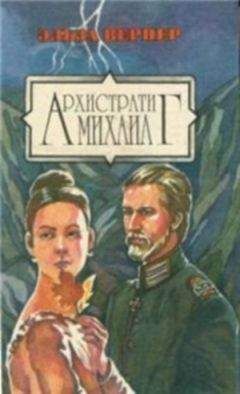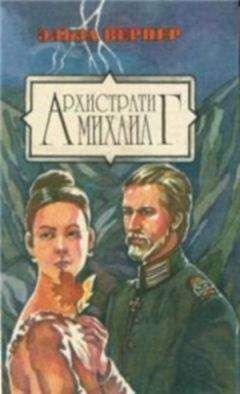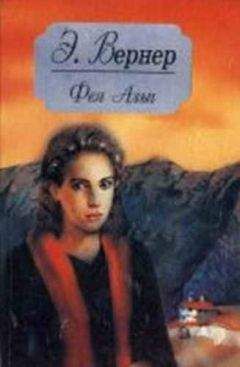На другой день после приезда он с утра отправился к своему брату в монастырь, и сейчас они оба сидели в креслах в кабинете прелата. В комнате ничего не изменилось — она была так же роскошно обставлена, не хватало лишь солнечного света, льющегося из окон. За ними виднелись горы, покрытые туманом, воздух был холоден и влажен.
— Однако довольно о столичных новостях и политике, — сказал граф, — я хочу узнать, как поживает Бруно. Что, он все еще в Р.? Как его здоровье?
— Он здоров, — сухо ответил прелат.
— Что же, он ревностно относится к своим новым обязанностям?
— Очень ревностно! — тем же тоном проговорил настоятель.
Сухой, холодный тон брата поразил графа.
— Что с тобой? — воскликнул он. — С Бруно случилось какое-нибудь несчастье?
— Ничего хорошего я тебе не могу сообщить!
— В чем дело? Умоляю тебя, говори скорее! — попросил граф, вскакивая с кресла.
— Отец Бенедикт давно превзошел и твои, и мои ожидания, — насмешливо ответил прелат. — В три месяца своего пребывания у отца Клеменса он сделался настоящим апостолом среди горного населения. В Р. стекается масса народа, Бог знает откуда, для того только, чтобы видеть и слышать отца Бенедикта. Он действительно проповедует поразительные вещи, и нужен только небольшой толчок, чтобы он открыто перешел на сторону противной нам партии, которая с радостью признает его своим.
— Господи, Твоя воля!.. — воскликнул граф. — Зачем же ты допустил это? Отчего не остановил его вовремя?
— Потому что не подозревал всей опасности. Я всегда считал Бенедикта ненадежным, но никак не ожидал, чтобы он так быстро прославился, приобрел такое влияние.
— И ты ничего не предпринял?
— Все, что можно было сделать, сделано, но слишком поздно. Бенедикт успел бросить искру в сознание народа. Я очень долго щадил его, отчасти ради тебя, отчасти из-за себя, так как мне хотелось сохранить для монастыря талантливого человека. В первый раз в жизни я совершил ошибку и жестоко наказан за нее.
— Что же собственно сделал Бруно? — с тревогой спросил граф. — Когда я уезжал, ты был вполне доволен им.
— Да, сначала. Его первые проповеди были блестящи, правда, может быть, слишком смелы, но я этого и желал. Наша обычная манера проповедовать очень устарела; теперь больше, чем когда бы то ни было, нам нужны энергичные, пылкие ораторы, умеющие так подействовать на народ, чтобы он продолжал видеть в нас своих могущественных, сильных друзей, на которых он всегда может опереться. Бенедикт обладает именно таким даром действовать на массы. Я с большим интересом следил за его успехами, но он зашел слишком далеко. Несколько раз я предостерегал его, но мои предостережения не действовали. Я решил отозвать его, но в последний праздничный день он сказал такую проповедь… такую… — прелат остановился, не находя нужных слов. — Надо быть безумным, чтобы проповедовать такие вещи, ведь он не мог не знать, что губит себя…
— Что же, он произнес что-нибудь против католицизма? — встревоженно спросил граф.
— Хуже! Его проповедь была чисто революционной пропагандой. Местные жители и так представляют собой дикий, необузданный народ, как вообще горцы. Постоянная борьба с тяжелыми условиями жизни в горах вырабатывает в них протест против тех, кто стоит выше их, даже против духовенства. Ограниченный и слабовольный Клеменс дал своей пастве слишком много свободы, а тут еще революционная проповедь Бенедикта. Мы здесь всеми силами стараемся сдерживать непокорных, число которых растет, а там, в горах, проповедуют полное неуважение к духовенству.
Прелат поднялся с места и с необычным волнением стал ходить взад и вперед по комнате.
— Что же ты решил сделать с Бруно? — спросил граф, внешне равнодушно, но в то же время с большой тревогой следя за каждым движением брата.
— Естественно запретил ему читать проповеди и вызвал сюда для объяснений. Я убежден, что он исполнит мое приказание и на днях явится в монастырь. Принять более решительные меры я пока не могу. Горцы в своем фанатическом обожании Бенедикта ни за что не выдали бы его, если бы, конечно, подозревали, что ему предстоит.
Граф вздрогнул при последних словах настоятеля и сдавленным голосом спросил:
— А что ему предстоит?
— То, что полагается по монастырскому уставу. Бенедикт подлежит духовному суду и будет принужден испытать всю его строгость.
— Брат, ты ведь не станешь…
— Чего я не стану? — перебил графа настоятель, останавливаясь перед ним. — Неужели ты думаешь, что я могу и теперь защитить Бруно? Для тебя, конечно, не существует ничего невозможного, раз дело касается твоего любимца, Оттфрида ты никогда не любил.
Граф молча отвернулся.
— Я понимаю, — продолжал прелат, — что ты не чувствуешь никакой привязанности к графине, — ты женился на ней только для того, чтобы увеличить блеск нашего дома, принес себя в жертву семейным традициям. Понятно, что она осталась чужой для тебя. Но я не могу постичь, как можешь ты так равнодушно относиться к собственному сыну?
— Оттфрид мне несимпатичен своим эгоистическим характером, — ответил граф. — Лицом он похож на меня, но в нем нет ничего общего с моим темпераментом.
— Я знаю, кто унаследовал твой темперамент, — заметил прелат. — Будь осторожен!.. Твой темперамент уже довел тебя однажды до невозможного положения, из которого тебя вывела только моя рука. Если бы твоя любовная связь…
— Замолчи! — грозно крикнул граф. — Ты лучше, чем кто-либо другой, знаешь, что это была не любовная связь, а брак.
Прелат насмешливо пожал плечами.
— Брак! — повторил он. — Хорош брак между людьми разных исповеданий, заключенный где-то за границей, без согласия родителей и многих других необходимых условий!.. Католическая церковь не признает таких протестантских браков, она считает их недействительными.
— Тем не менее я не потерплю, чтобы бросали тень на репутацию моей покойной Анны. Нас венчал священник в церкви. Откуда могла знать восемнадцатилетняя девушка, что по нашим законам протестантский брак недействителен? Все то, что случилось потом, должно пасть укором только на меня, а уж никак не на нее.
— Ты поступил так, как тебя обязывала поступить честь нашего рода. То, что было просто глупостью для незначительного офицерика, становилось преступлением, когда офицерик превратился во владетеля майората, единственного представителя рода Ранек. Этой мещаночке не следовало протягивать руку к графской короне, за свою дерзость она и поплатилась. Счастье твое, что она умерла, и так было достаточно возни с ее ребенком.
— Он никогда не принадлежал мне, — с глубокой скорбью возразил граф. — Ты сейчас же предназначил мальчика для монастыря, сам занимался его воспитанием и только изредка позволял мне видеться с ним.