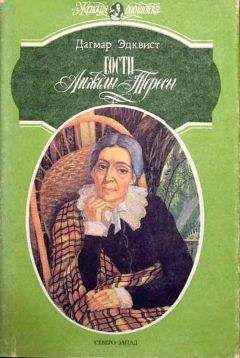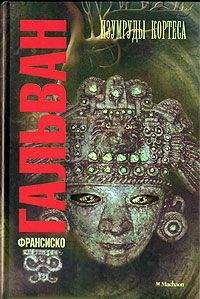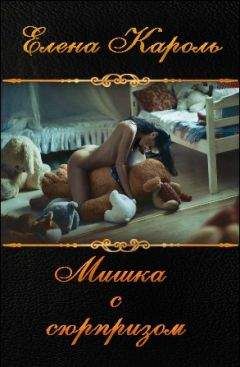Давид сказал с изумлением:
— И это вы так говорите о Фаланге?
На мгновение губы Мартинеса Жорди насмешливо искривились.
— Вы ошибаетесь — я говорю о Хосе Фелиу. Я был другом и однолеткой с Эстебаном, но мне очень нравился его старший брат Хосе. А его мать…
Жорди сделал глоток из рюмки, посмотрел в пустое ничто, сказал более молодым, более живым голосом, каким говорил когда-то:
— Она была такой грациозной, когда шла по траве… Обычно она выходила из дома и давала нам хлеба с кальмаром, а иногда садилась на ступеньку к источнику и смотрела, как мы с Эстебаном играли. Иногда сама разгорячится, характер у нее был такой же живой, как у Эстебана. А теперь…
Он прервал себя, мельком взглянул на Давида и прибавил другим тоном:
— Ах да, вы ведь еще не видели Анжелу Тересу. А тогда она была полна огня и жизни, совсем как Эстебан. Эстебана сердила осторожность Хосе. Наступил момент — что выбирать, реформы или безопасность, и он не выбрал безопасность. Когда началась война, Эстебан пошел рядовым на сторону правительства. Его произвели в чин и вскоре он получил повышение. Он был из тех легендарно отважных, что после страшного разгрома могли снова и снова организовывать сопротивление.
— Вы тогда были его товарищем?
— Вначале, как рядовой — но вскоре мне прострелили легкое и я выбыл из строя, уже до конца войны.
— А Хосе? Как воспринял он и все другие, прежние левые, когда Фаланга объединилась с восставшими генералами?
— Он наверно полагал, что, независимо от этого, должен быть лояльным к ним. Когда фронт народного освобождения потерпел поражение… в последние дни марта тридцать девятого…
У Жорди пересохли губы и он должен был смочить их вином.
— …то Эстебана взяли в плен, прислали сюда и отдали под военный трибунал. Как офицер правительственной армии, он принадлежал к категории «врагов», и мог ожидать либо расстрела, либо тюремного заключения на двадцать лет. Его осудили к смерти.
Хосе тоже был смелым человеком, и получил чин капитана. Он бросился в Мадрид, чтобы выхлопотать брату помилование — и ему это удалось. Об изменении приговора телеграфировали из ставки начальнику тюрьмы. Хосе тоже сразу же отправился сюда, чтобы поддержать мать и отыскать брата в тюрьме.
Его встретило известие, что Эстебан Фелиу казнен как революционер. Начальник тюрьмы отказался дать какие-либо объяснения.
Хосе поднял дело — можете себе представить, с каким мужеством и с какими трудностями, в то время, когда военные трибуналы и специальные команды по расстрелу работали день и ночь — и оказалось, что Эстебана не расстреляли, а повесили в тюрьме через два часа после того, как начальник тюрьмы получил телеграмму о помиловании. Когда Хосе потребовал от начальника тюрьмы ответа, тот пожал плечами и сказал, что не мог допустить, чтобы такой храбрый и опасный враг остался в живых. И посоветовал капитану Фелиу больше этого дела не касаться.
Тогда Хосе выхватил свой офицерский револьвер и застрелил подлеца. А потом застрелил себя. Как уверяли подручные начальника тюрьмы.
Наступила тишина.
— Какая ужасная история, — покачал головой Давид.
— У нас вообще ужасная история, — отозвался Жорди.
Дверь скрипнула, вошла бедно одетая женщина, но решила повернуть обратно, увидев, что там посторонние. Жорди поспешно спросил, что ей нужно. Нет, нет, она просто хотела купить веревочные туфли. Он вынул два своих жалких варианта. Она посмотрела на них, спросила шепотом, нет ли чего подешевле. Дешевле у него не было. Сконфуженно подсчитала деньги в своем потертом кошельке, сказала опять шепотом — из-за Давида, как он решил — что не хватает трех песет, нельзя ли принести их в пятницу? Хорошо, согласился Жорди. Тогда она слабо улыбнулась, взяла туфли, не примерив, и ушла.
— Вы ее знаете? — спросил Давид.
— Нет.
— Думаете, она когда-нибудь деньги принесет?
— Она же ведь сказала! — ответил Жорди немного удивленный.
Давид подумал, как это теперь с ним часто бывало, что имеет здесь дело с благородными людьми. Он устыдился опять своей позы «культурного человека» с его дешевым скептицизмом по отношению к ближнему.
— А как сложилась судьба тех, кто остался в живых в семье Фелиу? — вернулся он к разговору.
— Остались только отец и мать. Им ничего не сделали, благодаря Хосе. То, что случилось с начальником тюрьмы, сочли делом чести. Им оставили их усадьбу. Так что, можно сказать, расчет папаши Фелиу оправдался.
— Жестоко сказано.
Жорди пожал плечами.
— Возможно. Он принадлежал к людям, которых я никогда не мог принять всерьез — думаю даже когда я был маленьким, а он отцом Эстебана, и иногда нам от него влетало. Так он никогда и не повзрослел. Он не мог считать ничего, кроме денег. Думал о деньгах. Шел в свою рощу пробковых дубов и подсчитывал урожай, гулял и считал свои апельсины. Ходил всегда и ликовал, какой он хитрый и везучий, и угодный Богу, как у него вообще все хорошо складывается. Понимаете, это не Америка и не ваша северная страна: здесь считается, что все то, что есть, таким навсегда и останется, бедняк должен оставаться бедняком, и почти чудо, если он вдруг становится обеспеченным. И было бы кощунством требовать у Бога чуда слишком часто… Так что он ревностно призывал всех своих соседей и работников не требовать невозможного, то есть, чтобы им стало так же хорошо, как ему.
На мгновение, как солнечный зайчик, мелькнул прежний Мартинес Жорди: студент с горячим чувством социальной ответственности и любовью к своей стране, находящей выражение в нежной и дразнящей иронии.
— Но все-таки? Ведь оба сына… — задумчиво произнес Давид.
— Да, конечно. Только что ему было делать? Он забирался на свой склон с пробковыми дубами, и давай считать. И когда вспоминал, что некому будет продолжать его дело, садился на землю и плакал. А потом опять начинал считать.
Они умерли, а он был жив, это противоречило законам природы, но так уж получилось, и ему, Педро, нравилось быть живым, если даже кое-кто умер. Ему это нравилось, несмотря на все тяготы старости, то головокружение, то боль в ногах. Ближе к концу появились признаки сильнейшего склероза, о своих мальчиках он говорил с таким выражением лица, как будто в глубине души считал, что просто ему, как обычно, повезло, раз он пережил тех, кто настолько моложе его.
— Он был намного старше своей жены?
— Да, порядком, — ответил Жорди, глядя куда-то вдаль, и прибавил, — нет, в судьбе Педро нельзя увидеть ничего трагического. Даже смерть не заставила его отнестись к ней серьезно. Подошла однажды к нему сзади, когда он бродил по своей роще, вновь и вновь пересчитывая пробковые дубы, и похлопала его дружески по плечу — вот и все.