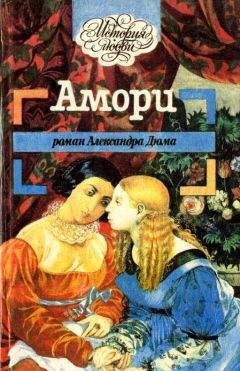К счастью, я сказал уже об этом, болезнь не прогрессирует; я на мгновение вздохнул.
Я надеюсь.
5 июня.
Ей лучше, дорогая Антуанетта, и этим «лучше» я обязан вам. Амори был великолепен; если он причинил зло, трудно сделать больше, чтобы его исправить. Все время, которое он мог проводить около Мадлен, он посвятил ей, и я уверен, что он все время думал о ней.
Но я заметил следующее: как только Антуанетта и Амори вместе были около Мадлен, Мадлен становилась беспокойна: ее глаза переходили с Антуанетты на Амори, стараясь застать врасплох, когда они обменивались взглядами; по привычке ее рука была в моей, и она забывала, что я чувствую, как ревность бьется в ее пульсе.
Когда тот или другой были наедине с ней, пульс становился спокойнее, но когда случайно оба отсутствовали, Боже мой, бедная, дорогая Мадлен, как она страдала, как жар пожирал ее до тех пор, пока тот или та не появлялись.
Я не мог удалить Амори. В этот момент Амори был ей необходим, как воздух, которым она дышит.
Мы увидим позднее, как следует поступить Амори — уехать или нет.
Я не осмелился удалить Антуанетту: как я мог сказать этому бедному ребенку, юному и чистому, как божий свет: «Антуанетта, уходи!»?
Конечно, она догадалась обо всем. Позавчера я увидел, как она входила в мой кабинет.
— Дядя, — сказала она мне, — я слышала, что вы собирались, как только наступят прекрасные дни и Мадлен почувствует себя лучше, увезти ее в замок в Виль-Давре. Дядя, Мадлен чувствует себя лучше, и прекрасные дни наступили. Дядя, я пришла просить вас, чтобы вы разрешили мне уехать.
Едва она заговорила, я обо всем догадался, и я устремил свой взгляд на нее. Она опустила глаза, и как только она их подняла, она увидела мои раскрытые объятия. Она бросилась в них, рыдая.
— О, дядя, дядя! — вскрикнула она, — я не виновата, клянусь вам. Амори не обращает на меня внимания, Амори не занят мной с тех пор, как Мадлен больна, Амори забыл о моем существовании, и, однако, она ревнует. И эта ревность причиняет ей боль. Не возражайте, вы это знаете так же хорошо, как и я; эта ревность — в ней, в ее пылких взглядах, в дрожащей речи, в ее прерывистых движениях. Дядя, вы хорошо знаете, что мне необходимо уехать, и, если бы вы не были так добры, разве вы мне уже не сказали бы, что нужно уехать?
Я не отвечал Антуанетте, только прижимал ее к сердцу.
Потом мы вернулись в комнату Мадлен.
Мы нашли ее беспокойной и взволнованной. Амори не было уже полчаса; было очевидно: Мадлен думала, что он с Антуанеттой.
— Дитя мое, — сказал я ей, — так как ты чувствуешь себя все лучше, и я обещал, что через две недели мы сможем поехать за город, то наша добрая Антуанетта, которая берет на себя обязанность быть нашим квартирьером, уезжает заранее, чтобы приготовить наше жилье.
— Как! — воскликнула Мадлен. — Антуанетта едет в Виль-Давре?
— Да, моя милая Мадлен, тебе лучше, как сказал твой отец, — отвечала Антуанетта. — Я оставляю тебя на горничную, миссис Браун и Амори, они о тебе позаботятся. Их присутствие достаточно для выздоравливающей; а я тем временем приготовлю твою комнату, буду ухаживать за твоими цветами, я устрою твои оранжереи. И когда ты приедешь, ты найдешь все готовым к твоему приезду.
— А когда ты уезжаешь? — спросила Мадлен с волнением, которое она не смогла скрыть.
— Сейчас запрягают лошадей.
Тогда, то ли от угрызения совести, то ли от признательности, то ли от обоих этих чувств, Мадлен раскрыла свои объятия Антуанетте, и девушки обнялись.
Затем Мадлен, казалось, сделала над собой усилие.
— Но, — сказала она Антуанетте, — разве ты не подождешь Амори, чтобы попрощаться с ним?
— Попрощаться? А зачем, — сказала Антуанетта, — разве мы не увидимся через две или три недели? Ты с ним попрощаешься и обнимешь его от моего имени; ему понравится.
И, сказав это, Антуанетта вышла.
Спустя десять минут мы услышали стук колес ее коляски, и Жозеф прибыл, чтобы объявить, что Антуанетта уехала.
Странная вещь, все это время я держал за руку Мадлен.
Как только объявили об отъезде Антуанетты, ее пульс изменился. С 90 ударов он снизился до 75; затем, утомившись от этих волнений, таких незначительных для постороннего, могущего увидеть только их внешнюю сторону, она уснула самым спокойным сном, какого она не знала с того фатального вечера, когда мы уложили ее в кровать, которую она с тех пор не покидала.
Так как я не сомневался, что Амори не замедлит явиться, я приоткрыл дверь, чтобы шум, который он произведет, входя, не разбудил ее.
И на самом деле через некоторое время он появился.
Я сделал знак, чтобы он сел у кровати, там, где лежала голова моей дочери, чтобы ее глаза, открывшись, могли увидеть его.
А, мой Бог, вы знаете, что я не ревнив, пусть ее глаза закроются после того, как она проживет долгую жизнь, и пусть все ее взгляды будут устремлены на него.
С этого времени ей стало лучше.
9 июня.
Улучшение продолжается… Спасибо, Боже!
10 июня.
Ее жизнь в руках Амори. Пусть он помнит о том, что я у него прошу, и она спасена!»
Мы обратились к дневнику господина д'Авриньи, чтобы описать происшедшие события, так как никто лучше, чем этот дневник, не смог бы объяснить, что произошло у изголовья бедной Мадлен и в сердцах тех, кто ее окружал.
Как уже сказал господин д'Авриньи, заметные улучшения произошли в состоянии больной благодаря кропотливым заботам отца, и, однако, несмотря на науку и даже на плоды этой науки, делающей так, что ни одно из таинств человеческого организма не могло ускользнуть от нее, господин д'Авриньи понял, что, кроме доброго и злого гения, которые боролись за больную, была третья сила, помогающая то болезни, то врачу: это был Амори.
Вот почему в дневнике отмечено, что существование Мадлен было отныне в руках се возлюбленного.
Итак, на следующий день после того, как и он написал эти строки, они оба вышли из комнаты Мадлен, отец вынужден был передать Амори, что должен с ним поговорить.
Амори, который еще не лег, тотчас же пришел к господину д'Авриньи в его кабинет.
Старик сидел в углу у камина, опершись рукой на мрамор, погруженный в такое глубокое раздумье, что не услышал, как открылась и закрылась дверь, и молодой человек подошел к нему так тихо, что шум шагов, приглушенный толстым ковром, не вывел его из задумчивости.
Подойдя, Амори подождал и, не скрывая своего беспокойства, спросил:
— Вы меня звали, отец, не произошло ли что-нибудь нового? Мадлен не чувствует себя хуже?
— Нет, мой дорогой Амори, наоборот, — ответил господин д'Авриньи, — она чувствует себя лучше, и поэтому я вас позвал.