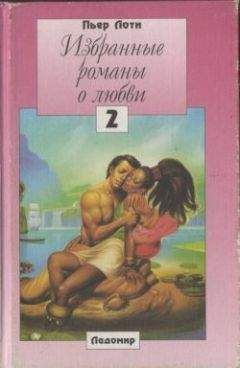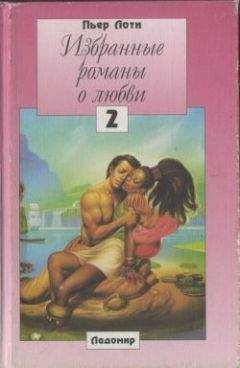– Ах, моя добрая Го, я собирала хворост и уже возвращалась домой, когда возле Плуэрзеля встретила Гаоса-сына. Конечно, мы говорили о моем бедном внуке. Они сегодня утром вернулись из плавания, и с полудня он ждал меня, чтобы проведать, да так и не дождался. Бедный парень, у него тоже в глазах стояли слезы… Он проводил меня до порога, помог донести вязанку…
Го слушала, и сердце ее сжималось: значит, визит Янна, на который она так рассчитывала, уже состоялся и больше он, разумеется, не придет, все кончено…
В эту минуту жилище показалось ей совсем унылым, нужда — нестерпимой, а мир — пустым, она поникла головой и почувствовала желание умереть.
Постепенно пришла зима, легла на землю, точно брошенный кем-то саван. Серые дни сменялись такими же серыми днями, Янн больше не появлялся, и обе женщины жили тоскливо и одиноко.
С наступлением холодов жизнь их сделалась тяжелей и дороже.
Ко всему прочему за старой Ивонной стало трудно ухаживать: бедная ее голова теряла разум; старушка сердилась, говорила колкости, даже бранилась; раз или два в неделю на нее, как на ребенка, ни с того ни с сего «находило».
Бедняжка!.. Она бывала такой кроткой в свои светлые дни, Го не уставала чтить и холить ее. Всю жизнь быть доброй и в конце ее сделаться злой! Выставить напоказ весь запас злобы, спавшей всю жизнь, весь арсенал грубых слов, прежде упрятываемых подальше, — какое осмеяние души и какая горькая загадка!
Еще она начала петь, и песни эти слышать было горше, чем злобные выпады; пелось то, что первым приходило ей в голову: то молитвы, услышанные во время церковной службы, а то и непристойные куплеты портовых кабаков. Случалось, она распевала «Девиц из Пемполя» или же, раскачивая головой и стуча ногой в такт, заводила:
В далекую Исландию
Отчалил муженек,
Оставил в утешение
Дырявый кошелек.
Ой-ли-ла-ли-ла-ли-ла,
Дырявый кошелек.
Куда же я без денег?
Ума не приложу.
А ну-ка я, да ну-ка я
Сама их заслужу!
Ой-ли-ла-ли-ла-ли-ла,
Сама их заслужу!..[48]
И всякий раз пение внезапно прерывалось, ее невидящие и ничего не выражающие глаза широко раскрывались, словно затухающее пламя, которое вдруг вспыхивает, чтобы окончательно погаснуть. Старушка подолгу сидела обессилевшая, с опущенной головой и отвисшей челюстью, точно мертвая.
Она перестала быть чистоплотной — и это явилось новым неожиданным испытанием для Го.
Однажды она не смогла вспомнить своего внука.
– Сильвестр? Сильвестр?.. — твердила она, явно припоминая, кто бы это мог быть. — Ах, моя дорогая, понимаешь, когда я была молода, у меня столько их было — мальчики, девочки, девочки, мальчики, всех не упомнить!.. — И она беззаботно, почти непристойно, взмахивала своими морщинистыми руками…
А на следующий день она прекрасно помнила его, без умолку рассказывала о том, что он когда-то сделал или сказал, и целый день плакала.
О, эти зимние вечера, когда не хватает хвороста, чтобы разжечь огонь! Работа в холодном доме, кропотливая работа швеи ради куска хлеба и невозможность лечь спать, не закончив шитье, которое она каждый вечер приносила из Пемполя.
Старая Ивонна мирно сидела у камина, приблизив ноги к догорающим углям, а руки сложив под фартуком. Но с наступлением вечера у нее всегда возникала потребность побеседовать с Го.
– Ты ничего мне не говоришь, моя девочка, почему так? Когда-то я знавала одну девушку твоего возраста, она умела поддержать беседу. Сдается мне, нам не будет так грустно, если ты немного поговоришь со мной.
И тогда Го рассказывала ей какие-нибудь новости, которые слышала а городе, или называла имена людей, встреченных по дороге, говорила о чем-то, что вовсе ее не интересовало, впрочем, ее теперь ничто не интересовало, и наконец умолкала на полуслове, увидев, что бедная старушка задремала.
Ничего живого, ничего молодого не было рядом, в то время как молодость жаждала тоже молодости. Красота ее так и увянет, одинокая и бесплодная…
Ветер с моря, отовсюду проникавший в дом, раскачивал лампу, и шум волн слышался так отчетливо, словно Го находилась в каюте корабля. А тут еще постоянные и мучительные мысли о Янне, для которого все это было своей, родной стихией. В страшные ночи, когда снаружи все бушевало и ревело во мраке, она с еще большей тревогой думала о нем.
Одна, всегда одна с этой спящей старушкой — порой ее охватывал страх, и, глядя в темные углы, она думала, кто спал когда-то на этих полках, а потом погиб в открытом море в такие вот ночи. Души умерших могли вернуться домой. Она чувствовала себя незащищенной перед этими мертвецами — нельзя же считать защитой старую женщину, которая и сама уже почти мертвец.
Внезапно Го содрогнулась всем телом, услышав доносящийся со стороны камина тонкий надтреснутый голос, идущий словно из-под земли. С леденящей душу игривостью голос пел:
В далекую Исландию
Отчалил муженек,
Оставил в утешение
Дырявый кошелек.
Ой-ли-ла-ли-ла-ли-ла…
Девушка испытывала тот особенный страх, который вызывает присутствие рядом безумца.
Дождь все лил и лил, и шум его напоминал неумолчное журчание фонтана; было слышно, как снаружи вода струится по стенам. В старой, поросшей мхом крыше имелись желоба, по которым вода неустанно стекала, монотонно, уныло позвякивая. Местами пол в жилище, каменный и земляной, смешанный с гравием и ракушками, был мокрым.
Вода присутствовала везде — бурная, хлеставшая, распылявшаяся в воздухе на мелкие частицы; она сгущала тьму и еще больше отдаляла друг от друга разбросанные там и сям домишки Плубазланека.
Воскресные вечера были для Го особенно тягостными. Где-то царило веселье, люди радовались даже в маленьких, затерянных на побережье деревушках; всегда была хижина, в закрытые окна и дверь которой стучался черный дождь, а из нее доносились грубые голоса, поющие песни. Внутри — поставленные в ряд столы, моряки, обсыхающие у яркого, сильного, коптящего пламени, старики, довольствующиеся водкой, молодые, обхаживающие девушек, — все пьют, чтобы одурманить себя. А совсем рядом море, их завтрашняя могила, тоже поет, наполняя ночь своим оглушительным голосом…
Иногда по воскресеньям компании молодых людей шли по дороге мимо дома Моанов. Это были те, кто жил на краю земли, там, где находился Порс-Эвен. Они возвращались из Пемполя очень поздно, хмельные от выпивки и женских объятий. Их не тревожил дождь — они привыкли к шквалам ветра и ливням. Го прислушивалась к пьяным песням и крикам, быстро теряющимся в шуме ветра и грохоте волн, старалась различить голос Янна и чувствовала дрожь всякий раз, когда ей казалось, что узнала его.