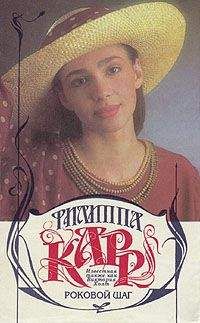Мне не нравилось видеть срезанные цветы в горшках, потому что они напоминали мне прошлое. Дамарис же любила цветы и набирала в саду целые корзины. У нее была специальная комната, которую она называла цветочной, и там она составляла букеты. Она говорила:
— Иди сюда, Кларисса, давай срежем несколько роз.
Но вскоре Дамарис заметила, что я сразу затихаю и мрачнею, а ночью мне снятся кошмары. И она перестала срезать цветы. Дамарис была очень чуткой, значительно более чуткой, чем Джереми. Я полагаю, что он был слишком озабочен тем, как с ним обошлась жизнь до его встречи с Дамарис, чтобы думать о том, как жизнь обходилась с другими. А Дамарис всегда думала о других и верила, что во всех ее невзгодах виновата была она сама, а не судьба.
Когда расцвели фиалки, она взяла меня с собой в поле собирать их. Она сказала:
— Если ты помнишь, нас соединили именно фиалки. Я всегда буду их любить. А ты?
Я ответила, что буду, и после этого стала чувствовать себя по-другому, собирая фиалки, а со временем вообще перестала бояться срезанных цветов. Чтобы показать это Дамарис, я пошла в сад и принесла ей несколько роз. Она сразу все поняла и крепко обняла меня, пряча лицо, чтобы я не видела ее слез.
В первые дни все постоянно говорили обо мне не только в Эндерби, но и в Довер-хаусе, а в Эверсли-корте устраивались настоящие совещания. Я часто слышала, как кто-нибудь говорил:
— Но что будет лучше для ребенка?
Они все туже и туже заворачивали меня в кокон. Начало моей жизни было необычным и они считали, что я нуждаюсь в особой заботе.
Может быть, поэтому мне было так легко со Смитом. Я любила смотреть, как он ухаживает за садом или чистит серебро. До того, как Дамарис стала хозяйкой дома, он делал все, но теперь прабабушка Арабелла посылала слуг из Эверсли-корта. Джереми это не нравилось, Смиту тоже.
Смит относился ко мне, как он сам говорил, «жестко».
— Не стой без дела, — говорил он, — в праздные руки сатана беду кладет.
И я раскладывала вилки и ножи по их «домикам» или собирала ветки и увядшие цветы и носила их к тачке. Дамарис часто разделяла нашу компанию, и втроем мы были счастливы. Со Смитом я чувствовала себя абсолютно свободно — не тем ребенком, о благополучии которого так пеклись, причем иногда, боюсь, за счет удобства других, а просто не столь уж ценным работником. Могло показаться странным, что я не хотела, чтобы мне придавали большое значение. Но это было так. Я желала, чтобы на меня обращали меньше внимания. Конечно, я начинала чувствовать, как их забота все плотнее сжимается вокруг меня.
В семье развернулась дискуссия по поводу того, нужна ли мне гувернантка. Дамарис сказала, что она сама будет учить меня.
— Возможно, ты слишком много на себя берешь, — с волнением сказала бабушка Присцилла.
— Дорогая мама, — улыбнулась Дамарис, — для меня это будет большим удовольствием, ведь я же буду все время сидеть дома.
Прабабушка Арабелла предполагала, что мне нужна гувернантка-француженка. Я умела говорить по-французски, потому что учила его параллельно с английским, живя в Париже.
— Будет жаль, если она забудет французский, — сказала Арабелла.
— Раз уж она научилась, то не забудет, — отрезал прадедушка Карлтон. — Ребенку только понадобится иногда небольшая практика. К тому же между нашими странами идет война, и мы не сможем нанять француженку.
Итак, было решено, что до поры до времени меня будет учить Дамарис, а идею нанять гувернантку пока отложили.
Весь этот разговор по поводу французского напомнил мне о Жанне. Я очень любила ее в те трудные дни. Она была бастионом, отделяющим меня от жестоких парижских улиц. Если кто и олицетворял для меня защиту, так это она. Я часто думала о ней. Мне было известно, что Дамарис предлагала ей поехать с нами в Англию, но разве она могла оставить мать и старую бабку? Они ведь умрут с голоду без нее.
Дамарис сказала тогда:
— Если когда-нибудь ты сможешь приехать к нам, мы будем рады.
Я была довольна, что она так сказала, и я знала, что она вознаградила Жанну за все, что та сделала для меня.
Итак, начался первый год моей жизни у Дамарис. У меня был пони, и Смит учил меня ездить верхом.
Я никогда не была так счастлива, как в те минуты, когда ехала верхом Смит держал пони за уздечку, а Демон с радостным лаем бежал за нами. Это было даже лучше, чем ездить на плечах Хессенфилда.
Длинными летними днями мы сидели в классной комнате и занимались с тетей Дамарис. Потом были прогулки верхом — теперь уже без страховки, игры с Демоном на траве, визиты в Эверсли-корт и Довер-хаус — полакомиться лимонадом и пирожными, если это было летом; выпить подогретого вина и поесть горячих, с пылу, с жару, пирогов зимой. Мне нравились все сезоны: Среда, с которой начинается Великий пост и начало Великого поста; бесконечные службы и печаль Великой Страстной пятницы, смягченная горячими булочками в форме креста; Пасха, когда повсюду нарциссы и вкусно пахнет кекс с корицей, посещение церкви, где я садилась рядом с Дамарис и начинала считать голубые и красные стеклышки в витражах, количество людей, которых я могла видеть, не поворачивая головы, и сколько раз во время службы пастор Рентой сказал «э-э», «а-а»и «у-у». Еще был праздник урожая, когда церковь украшали фруктами и овощами, и лучший из всех праздников — Рождество, с детской кроваткой в яслях, плющом, остролистом, омелой, рождественскими гимнами, подарками и всеобщим весельем. Все это было чудесно, и в центре всего этого была я.
Они всегда спрашивали друг друга о «ребенке». «Девочка должна больше общаться с другими детьми». Тут же приглашали детей. По соседству их было не так уж много, да они меня и не интересовали. Больше всего мне нравилось быть с Дамарис, Смитом и Демоном. Но я соглашалась быть «ребенком»— средоточием всех их забот. Подрастая, я начинала кое-что узнавать, в основном, от слуг, которые приходили из Эверсли-корта. Им не нравилось бывать в Эндерби, но это было своего рода приключением, и, вероятно, они получали от других слуг компенсацию за то, что приходили сюда: возвращаясь в Эверсли-корт, они на некоторое время становились центром внимания. Меня очень интересовали люди, и я страстно хотела узнать, что у них на уме. Я быстро обнаружила, что люди часто говорят не то, что думают, и слова порой не проясняют смысл, а затуманивают его. Я беззастенчиво подслушивала разговоры слуг. Должна сказать в свою защиту, что чувствовала что-то необычное в своем воспитании. От меня скрывали какие-то факты, и, разумеется, мне хотелось побольше узнать о самой себе.
Однажды я услышала разговор двух служанок в большом зале. Я сидела на галерее. Меня не видели, а я слышала все.