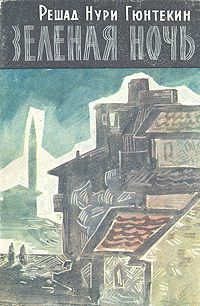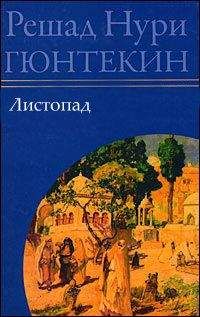Дня через два ей стало лучше, она смогла встать, даже вынула из сундука новые платья, принарядилась. Вечером мы спустились вниз встречать отца.
Отец остался жить в моей памяти как суровый солдат, строгий, немного дикий. Но никогда не забуду, как он обрадовался, увидев мать на ногах, как он плакал, схватив ее за руки, словно ребенка, который только начинает ходить.
Это был последний вечер, когда мы были вместе. На следующий день мать нашли у открытого сундука мертвой с кровавой пеной на губах. Голова ее покоилась на узелке с бельем.
Шестилетний ребенок должен понимать уже многое. Но я почему-то оставалась спокойной, словно ничего не замечала.
В доме, где мы поселились, было много обитателей. Помню, я каждый день дралась с ребятишками в большом саду. Помню, как мы с Хюсейном бродили по улицам города, по набережной, заходили во дворы мечетей, любовались куполообразными крышами.
Мать похоронили на чужбине. Отцу уже незачем было ехать в Стамбул. Видно, ему также не очень хотелось встречаться с моей бабушкой и многочисленными тетушками. Однако он счел своим долгом отправить к ним меня. Возможно, он решил, что жизнь среди солдат в казармах не слишком подходяща для взрослой девочки.
* * *
В Стамбул меня отвез наш денщик Хюсейн.
Представьте себе роскошный пароход и маленькую девочку на руках у плохо одетого солдата-араба. Кто знает, какой жалкой и смешной казалась эта картина со стороны. Но сама я была страшно счастлива оттого, что совершаю путешествие с Хюсейном, а не с кем-нибудь другим.
Наша дача стояла на берегу моря. В роще за домом был каменный бассейн, украшенный статуей, изображавшей нагого мальчика с отбитыми по плечи руками.
В первые дни нашего приезда эта почерневшая от солнца и сырости изуродованная фигурка казалась мне маленьким арабчонком-калекой.
Кажется, стояла осень, так как зеленоватая вода бассейна была покрыта красными листьями. Разглядывая их, я заметила на дне несколько золотых рыбок. И тогда я прямо в новых ботинках и шелковом платье, которое бабушка накануне так старательно разгладила, прыгнула в бассейн.
Роща моментально огласилась дикими криками. Не успела я опомниться, как тетушки вытащили меня, подхватили на руки, начали переодевать. Они бранили меня и целовали одновременно.
Эти крики и причитания сильно напугали меня, и отныне я уже не осмеливалась лезть в бассейн, а только ложилась животом на край, обсыпанный галькой, и свешивала вниз голову.
В один из дней я опять лежала на краю бассейна и наблюдала за рыбками. Позади меня на садовой скамье сидела бабушка в своем неизменном черном
чаршафе 6. Возле нее, поджав под себя ноги, как во время намаза, примостился Хюсейн. Они тихо о чем-то говорили, поглядывая в мою сторону. Надо полагать, разговаривали они по-турецки, так как я не понимала ни слова. Интонация их голосов, их непонятные взгляды заставили меня насторожиться. Я, как зайчонок, навострила уши и уже не видела золотых рыбок, сбившихся вокруг крошек бублика, который я разжевала и бросила в бассейн. Я смотрела на отражение бабушки и Хюсейна в зеленоватой воде. Хюсейн смотрел на меня и вытирал глаза огромным платком.
Порой у детей не по годам развита необыкновенная интуиция. Я заподозрила неладное: меня хотят разлучить с Хюсейном. Почему?.. Я была слишком мала, чтобы разбираться в подобных тонкостях. Однако я чувствовала, что эта разлука является таким же неотвратимым несчастьем, как наступление тьмы, когда приходит ее час, как потоки дождя в ненастный день.
В ту ночь я неожиданно проснулась. Моя маленькая кроватка стояла рядом с бабушкиной. Ночник под красным колпаком у нашего изголовья потух. Комната была залита лунным светом, который проникал сквозь окна. Спать не хотелось. Меня душила невыносимая обида. Приподнявшись на локтях, я смотрела некоторое время на бабушку. Убедившись, что она спит, я осторожно сползла с кровати и на цыпочках выскользнула из комнаты.
Я не боялась темноты, как многие мои сверстники, не боялась ходить ночью одна. Когда деревянные ступеньки лестницы, по которым я спускалась, начинали скрипеть у меня под ногами, я останавливалась с замирающим сердцем и пережидала. Моя осторожность могла сделать честь любому взрослому человеку.
Наконец я добралась до передней. Дверь оказалась на запоре. Но меня выручило окошко рядом с дверью, ведущей в сад. Оно было распахнуто. Выскочить через него в сад для меня было минутным делом.
Хюсейн спал в сторожке садовника в конце сада. Я побежала прямо туда. Длинный подол белой ночной рубашки путался у меня в ногах. Войдя в сторожку, я забралась на кровать к Хюсейну.
У Хюсейна был очень крепкий сон. Я узнала об этом, еще когда мы жили в
Арабистане 7. Разбудить его по утрам было нелегким делом. Чтобы заставить его наконец открыть глаза, приходилось садиться верхом ему на грудь, словно на лошадь, тянуть за длинные усы, как за поводья, и при этом оглушительно кричать.
Однако в эту ночь я побоялась будить Хюсейна. Я была уверена, что, проснувшись, он не позволит мне, как прежде, лежать у себя под боком, возьмет на руки и, не обращая внимания на мои мольбы, отнесет к бабушке.
А у меня было одно желание: провести последнюю ночь перед разлукой рядом с Хюсейном.
У нас в семье до сих пор еще вспоминают о моей проделке.
Под утро бабушка проснулась и увидела мою кровать пустой. Старушка чуть не сошла с ума. Через несколько минут весь дом был поднят на ноги… Зажгли лампы, свечи, обыскали сад, берег моря, обшарили все — чердак, улицы, сарай, где хранились лодки, дно бассейна. В колодец для поливки огородов на соседнем пустыре опускали фонарь…
Наконец бабушка, вспомнив про Хюсейна, бросилась в садовую сторожку, где и нашла меня спящей на груди у солдата.
У меня хорошо сохранился в памяти день нашего расставания. Это была настоящая трагедия. Сейчас я смеюсь… Никогда в жизни я так не унижалась, так не заискивала перед взрослыми, как в тот день. Хюсейн сидел у дверей на корточках и, не стесняясь, плакал. Слезы текли по его длинным усам. Выкрикивая заклинания, которым я научилась у нищих-арабов в Багдаде и Сирии, я целовала полы бабушкиного и теткиных платьев, умоляла не разлучать нас.
Романисты любят так изображать людей в горе: опущенные плечи, угасший взор, неподвижность и безмолвие — словом, жалкие, немощные существа.
У меня же все было как раз наоборот. Стоит со мной приключиться беде, как глаза мои начинают сверкать, лицо становится веселым, движения резкими, я шучу и проказничаю, от хохота теряю рассудок, словно мне все нипочем на этом свете. Язык мой болтает без устали, я готова совершить любые глупости. И все это потому, как мне кажется, что для человека, неспособного поведать о своем горе первому встречному или даже кому-нибудь близкому, так жить легче.
Помню, что, расставшись с Хюсейном, я вела себя именно таким образом. Невозможно описать всех моих буйных шалостей. Я словно взбесилась. Ну и досталось же от меня моим маленьким родичам, которых взрослые приводили специально развлекать меня.
Однако я очень скоро перестала тосковать по своему Хюсейну — беспечность, достойная всяческого осуждения. Не знаю, но, может, я действительно была на него обижена. Стоило кому-нибудь упомянуть в моем присутствии его имя, как я начинала морщиться, бранить его на ломаном турецком языке, который только что начала усваивать: «Хюсейн плохой… Хюсейн нехороший…» — и плевать на пол.
Тем не менее коробка фиников, присланная мне беднягой, «плохим и нехорошим» Хюсейном, тотчас по прибытии в Бейрут, как будто несколько смягчила мой гнев. С тоской я смотрела, как коробка пустеет, и все-таки в один присест уплела все финики. К счастью, остались косточки, которыми я потом забавлялась много недель. Часть их я перемешала с большими разноцветными бусами, которые обычно вешают на шею мулов от сглаза, и нанизала все это на нитку. У меня получилось замечательное ожерелье, похожее на те, какие носят людоеды.