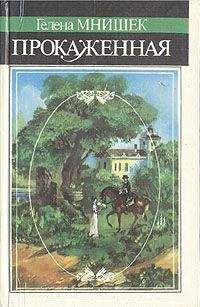Причитанья пострадавших слышались повсюду. Слились в одно стоны, проклятья, кашель наглотавшихся дыма, возгласы тех, кто изумлялся непонятной доброте, проявленной паном Михоровским к стрелявшему. Но майорат ничего этого не слышал. Он, окруженный несколькими экипажами и всадниками, так и не слезая с коня, разговаривал с графом Тресткой, Вольдемар говорил спокойно, даже весело, только на челе его лежала тень.
Небо на востоке порозовело — бледное солнце поднималось над горизонтом, подернутое дымом пожарища. Тусклый день озарил усталые лица землистого цвета.
Испуг словно бы оставил свою печать на закопченных, застывших лицах, и зеленоватое сияние мартовского рассвета придавало людям вид мертвецов, вырвавшихся из пекла.
Граф Трестка порывисто говорил майорату:
— Этот пожар — жуткий признак. Уж если мошенникам удалось так взбунтовать ваших людей, близится конец света! Что тогда говорить обо мне? Пора собираться за границу…
— Ну, в наших краях такое не скоро повторится, — задумчиво ответил майорат.
— Эге! То же самое говорили после бунта в Шляхах. Сколько тогда было разрушено… Нет уж, волна ширится. Как они ни любили вас, а все же решились… Правда, и мою Риту любят в Ожарове… может, из-за нее и меня пощадят…
— Я бы на твоем месте на это не рассчитывала, — сказала пани Рита.
— Знаете, что я думаю? — сказала Трестка. — Винокурня сгорела исключительно потому, что спирт в чанах был денатурирован. Иначе они ограничились бы тем, что выпустили спирт и перепились.
Майорат махнул рукой:
— Какая теперь разница? Все равно разнесли бы все.
Да нет. Можно было бы собрать упившихся, как баранов, да отнести в полицию. Прохвосты, до чего мы докатились? Проклятье! Случись это у меня, я знал бы, как с ними поступить. Попомнили бы, канальи!
Графиня Рита бросила на мужа печальный взгляд, ощутив болезненный укол горечи в самое сердце.
Она хорошо понимала, что чувствует в этот миг майорат. Взор его блуждал среди дымящихся развалин. Он не хотел карать, а желал вразумить темные, неразвитые умы, пришедшие в такое состояние не по низости своей, а из-за нищеты и убогости, из-за чванливости аристократии. Теперь эти бедняги готовы пойти за каждым, кто пообещает им рай, пойти вслепую, не рассуждая… Жажда если не равенства, то улучшения условий жизни и рождает мнимых «вождей», побуждающих к кровавым эксцессам и одурманивающих толпы…
Майорат вздрогнул. Вдруг что-то пришло ему на ум, и он произнес:
— Прекрасный был взрыв! Такое зрелище не часто увидишь!
Пани Рита удивленно взглянула на него:
— И вы способны были в такой миг любоваться эффектным зрелищем?!
— Конечно. Кроме того… До сегодняшней ночи в меня ни разу не стреляли. Эта щекочущая нервы угроза…
— Боже…
— А что вы сделаете с этим типом, когда он выздоровеет? — спросила Трестка.
— А что с этим сделаешь? Пусть идет, куда хочет, Глядишь, и поумнеет.
Тут подъехал управляющий винокурней, остановил коня перед майоратом и, смущенно вертя в руках шляпу, проговорил робко:
— Пан майорат…
— Что еще новенького?
— Рабочие хотели бы попросить у вас прощения. Они все до одного мучимы стыдом и раскаянием. Говорят, их форменным образом одурманили…
— Верю, — сказал майорат, — Иначе они не подвергли бы угрозе собственную жизнь..
Управляющий бросил на него быстрый взгляд и опустил глаза:
— Вы их выслушаете?
— Скажите им, пусть идут и отсыпаются после бурной ночи. Я их потом сам позову.
Управляющий поклонился и отъехал.
— Если есть ангельское терпенье, то это ваше, — сказал Трестка. — повезло этим прохвостам, что они напали на вас. Где-нибудь в другом месте они все позвенели бы кандалами, а что до агитатора, Он давно уже беседовал бы с праотцом Авраамом…
— Ты ошибаешься, дорогой, — прервала его графиня. — Прежде всего потому, что «где-нибудь в другом месте» народ не стал бы мстить стрелявшему. Жажда свершить самосуд говорит не только о невежестве народа, но и о любви к майорату.
— Однако брожение, судя по всему, началось не сегодня…
— О да! Сначала люди вообще не слушали разных бродячих крикунов, нескольких даже избили; но потом раздаваемые тайно брошюрки посеяли смуту в умах… Майорат умолк, его внимание отвлекли уезжавшие соседи, и он стал прощаться с ними.
— Вы поедете ко мне в замок, — сказал он графу с графиней.
Уже совсем рассвело, когда майорат и сопровождавшие его уезжали с пожарища. В раскаленных развалинах еще кое-где показывались языки пламени, сыпались искры. На смену уставшим пожарным майорат послал рабочих. Костры растаскивали баграми, женщины прямо-таки яростно заливали головни из ведер и бадеек. Всю злость народ вымещал теперь на огне — пожарище заливали водой, забрасывали грязью, втаптывали в землю затухающее, пламя. Это была сущая оргия усердия. В ответ на ужасные разрушения, причиненные огнем, люди обрушились на него со звериной жаждой мести. Губы майората искривились в ироничной усмешку.
— Ты, кажется называл моих людей культурными? — повернулся он к графу Трестке. — Не угодно ли взглянуть на них в эту минуту?
— Что делать, к этим варварам никакая культура не прилипнет, — ответил граф. — Не стоит и пробовать, напрасный труд… Махни на них рукой.
— Ничего подобного, — сказал Михоровский. — Культуру нужно вливать неустанно, пока она не проникнет во все поры организма, словно яд…
Пани Рита обратила к нему восхищенный взор.
Они долго ехали в молчании по хрусткому снегу, запятнанному черными потухшими головнями и кучами сажи. Внезапно граф воскликнул:
— Ага! Идет банда!
Майорат, видя приближавшихся к нему рабочих, недовольно сморщился:
— Чего они от меня хотят?
В глазах его мелькнула скука — он страшно устал.
Толпа рабочих окружила Аполлона, снег захрустел, когда они опускались на колени и всхлипывая и причитая целовали сапоги майората; женщины заламывали руки, умоляя о прощении:
— Прости, ясный пан! Одурманили, задурили головы… Не прогоняй нас, мы останемся тебе верны! Не посылай нас в тюрьму, отслужим, работать будем задаром… Где пан прикажет…
— Милосердия, ясный пан, сжалься! — причитали женщины.
Майорат устало склонил голову:
— Я не хочу вам зла… но и бунтов не люблю.
— Милосердия, ясный пан! Не прогоняй нас, спаси!
Всхлипыванья женщин и умоляющие взгляды мужчин сердили майората. Со всех сторон напирала толпа, черная, закопченная, пахнущая гарью и крепким потом. Михоровский начал терять терпение, но сказал спокойно: