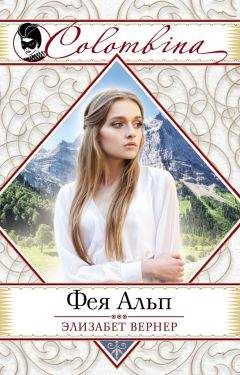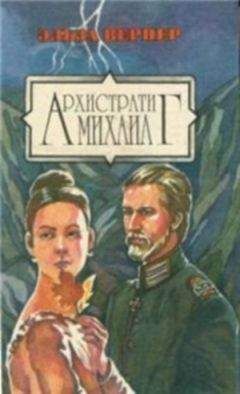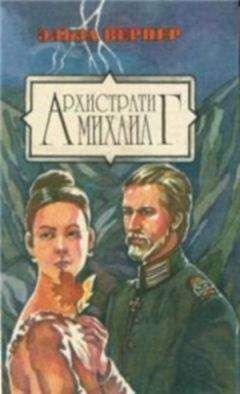Было что-то невероятно бессердечное и оскорбительное в том, как Нордгейм доказывал племяннице, что при всей своей красоте она из-за бедности не имеет права рассчитывать на то, что ее полюбят и выберут в жены. Эрна побледнела, губы у нее задрожали, но на лице можно было прочесть все, что угодно, только не уступчивость.
– А если я не ухвачусь? – медленно спросила она.
– То бери на себя и последствия. Если ты не выйдешь замуж, твое положение будет незавидно. Алиса, как тебе известно, выходит в будущем году.
– И в том же году я буду совершеннолетней и свободной!
– Свободной! Как торжественно это звучит! Значит, ты чувствуешь себя связанной в моем доме, где тебя приняли как дочь? Или ты рассчитываешь на отцовское наследство? Это – нищенские гроши, а ты привыкла к прихотям знатной девушки.
– Я жила с отцом в самой простой обстановке, – возразила Эрна, – и мы были счастливы. В твоем доме я никогда не была счастлива.
– Да, ты – истая дочь своего отца: он тоже предпочел поселиться в крестьянской усадьбе, вместо того чтобы, пользуясь преимуществами своего древнего имени, сделать карьеру в свете. Вальтенберг предлагает тебе желанную свободу, став его женой, ты получишь богатство и положение в обществе; он будет исполнять каждое твое желание, каждый каприз, если ты сумеешь взять его в руки. Я в последний раз требую, чтобы ты взглянула на дело разумно. Если же ты этого не сделаешь, между нами все будет кончено: я не терплю эксцентричности, которая, кажется, составляет наследственную черту рода Тургау! – Нордгейм повернулся, чтобы уйти, но у дверей остановился и сказал ледяным тоном, не терпящим возражения: – Я твердо надеюсь, что, вернувшись, найду тебя невестой. Прощай!
Он ушел, и через несколько минут послышался стук отъезжавшего экипажа.
Эрна бросилась в кресло. Разговор взволновал ее гораздо сильнее, чем она хотела показать этому холодному человеку, смотревшему на ее замужество единственно с точки зрения выгодной аферы.
«Невестой»! Это слово, обычно так волшебно звучащее для каждой девушки, внушало ей ужас, а между тем ее любил человек, единственный человек, который не спрашивал, богата она или бедна, который хотел увести ее из этого дома, где всем заправляли деньги, увести далеко отсюда, в мир свободы и красоты. Но, может быть, она еще могла бы полюбить его, может быть, он был достоин любви? Неужели невозможно было преодолеть себя!
В мучительной внутренней борьбе Эрна закрыла лицо руками и вдруг почувствовала чье-то ласковое прикосновение: это Грейф незаметно вошел в комнату и остановился перед нею. Он положил свою мощную голову на колени хозяйки и вопросительно смотрел на нее своими выразительными глазами, точно сочувствовал ей. Она взглянула на него: эта собака составляла все, что осталось ей от счастливой поры юности, проведенной в горах вместе с отцом, который любил ее до обожания. Теперь он уже давно лежал в могиле, старый, дорогой родной дом исчез с лица земли, а его единственная дочь жила в чужом доме и всем чужая, несмотря на узы родства.
Эрна зарыдала, обеими руками обвила шею собаки и, нагнувшись к ней, прошептала:
– О Грейф, если бы мы жили с тобой по-прежнему в старом Волькенштейнергофе, если бы эти чужие люди никогда не приходили! Они принесли с собой твоему хозяину смерть, а мне – хуже, чем смерть!
Экипаж Нордгейма уже катился вниз по горному шоссе, когда Эльмгорст и Рейнсфельд вышли из станционного здания и направились к вилле. Будущий зять, разумеется, не нуждался в докладе и сейчас же повел друга к своей невесте. Доктор, чувствовавший смущение уже от одного ожидания этого визита, теперь был окончательно подавлен непривычной обстановкой.
Он стоял на мягком ковре, заглушавшем шум шагов, посредине комнаты, производившей на него впечатление сказочного дворца. Белые занавеси на окнах были спущены, и в маленькой комнате царил полумрак, отчего она казалась еще красивее и уютнее со своими светло-серыми обоями, обитой матово-голубым шелком мебелью и такими же портьерами. Все здесь было светло, нежно, воздушно, как в царстве эльфов.
Но Бенно не привык иметь дело с эльфами, он споткнулся о ковер, уронил шляпу, наклонился, чтобы поднять ее, и, выпрямляясь, толкнул столик; однако Вольфганг, к счастью, успел подхватить и уберечь тот от падения. Молча и покорно снес Рейнсфельд неизбежную церемонию представления, сделал в высшей степени неловкий поклон, когда же в довершение всего увидел перед собой еще и холодную, строгую физиономию баронессы фон Ласберг, с очевидным изумлением оглядывавшей эту «личность», то совсем растерялся.
Эльмгорст нахмурился: он все-таки не думал, что дело будет так плохо, но, раз начав его, надо было кончить. Поэтому он по возможности сократил представление, к великому облегчению бедняги Бенно, казавшегося действительно жалкой фигурой в своем старомодном сюртуке. Он судорожно сжимал «заново вычищенную» шляпу в руках, украшенных злосчастными желтыми чудовищами; они были по крайней мере на два номера больше, чем следовало, и буквально болтались на его руках. Вольфганг, подводя его к невесте, произнес:
– Ты обещала мне, милая Алиса, доверить свое лечение доктору Рейнсфельду, я привел его, вот он! Ты знаешь, как беспокоит меня твое здоровье.
В его тоне в самом деле слышались озабоченность и внимание, но в нем не было и следа нежности. Рейнсфельд, потрясенный аристократическим видом баронессы, не посмел даже отвесить поклон молодой миллионерше, полагая, что она должна быть еще важнее и высокомернее. Он стоял с видом жертвенной овцы, приведенной на заклание, как вдруг услышал тихий, удивительно кроткий голос:
– Очень рада вас видеть. Вольфганг много говорил мне о вас.
Бенно в крайнем изумлении взглянул на нее и встретился с большими карими глазами, смотревшими на него с некоторым удивлением, но без малейшей насмешки. В голове его еще оставался образ дамы в атласе и кружевах, которую он видел на портрете и которая казалась там такой неприступной; здесь же перед ним была тонкая, нежная фигурка девушки в белом, воздушном утреннем платье, со светло-русыми, лишь едва подколотыми, волосами, с бледным милым личиком, выражавшим усталость, но никак не разочарованность и не высокомерие. Рейнсфельд положительно растерялся и начал бормотать что-то о великой чести, об огромном удовольствии, но, разумеется, на второй же фразе безнадежно запутался.
Вольфганг пришел на помощь другу и перевел разговор на цель их посещения. Он хотел дать случай Рейнсфельду, который у постели больного держал себя весьма уверенно, показать себя в роли врача. Однако сегодня Бенно как будто отрекся от всех своих привычек: он предлагал вопросы так робко и боязливо, точно смотрел как на незаслуженную милость на то, что ему отвечают, запинался, краснел, как молодая девушка, и, что всего хуже, сам сознавал, до какой степени неприлично ведет себя. Это лишало его остатков самообладания: он сидел удрученный и бросал на молодую девушку такие горестные взгляды, будто просил прощения в том, что утруждает ее своим присутствием.