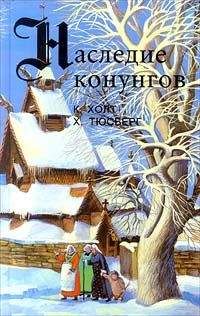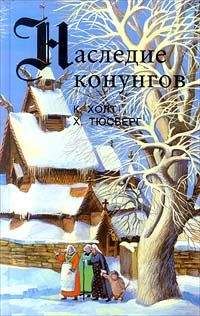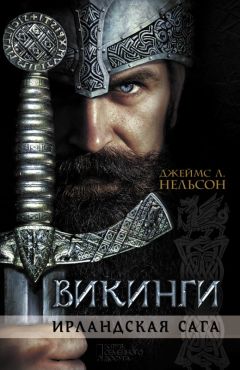3.
Праздничное пиршество должно было состояться ближе к полудню. На лугу за церковью уже завершились приготовления к изобильной трапезе. Монахи и помогавшие им дружинники Фулька устанавливали дощатые столешницы на козлах, от аббатства вереницей двигались послушники, неся угощение – сыры, белые и черные кровяные колбасы, вареные яйца, вяленую рыбу, молочные напитки в деревянных сосудах, тыквенные бутыли с сидром, кожаные бурдюки с вином. Монахини из башни Девы Марии и замужние поселянки раскладывали на столешницах теплые, утренней выпечки, хлебы, резали сыр и копченое мясо, горстями ссыпали на листья лопуха изюм, стоймя водружали снопы лука, сельдерея, петрушки. Были на столах и вареная репа, и бобы, но привыкшие к надоевшей постной пище монахи даже не смотрели на них – как и жители лесных деревушек или воины из свиты Фулька, они предпочитали толкаться среди дымящих костров, вокруг вырытых еще с вечера ям, в которых медленно тлели груды багровых угольев, над которыми на вертелах шипели и румянились туши овец, свиней и даже заколотого специально к празднику вола. Жир, треща и вспыхивая синими огоньками, капал на раскаленные угли. После скудной пищи зимних месяцев этот пир должен был стать праздником, событием, о котором еще долго будут вспоминать, когда придет пора набивать желудок вареными кореньями, запивая их водой из ручья.
Однако большая часть молодежи все еще предпочитала оставаться на лугу, где юноши устанавливали майский шест – специально выбранный для этой цели прочный и длинный ствол березы, который очистили от ветвей почти доверху, оставив лишь зеленую верхушку, которую девушки щедро украсили гирляндами цветов, в которых преобладали уже начавшие никнуть пучки ландышей – цветов мая, приносящих счастье.
Ги в одиночестве стоял под сенью церковной галереи. В любое другое время он глядел бы с изумлением на безмятежные лица людей из лесной долины, выражавшие беспечность, довольство и спокойствие. Великая редкость в тяжелые времена, когда нельзя передохнуть от беспрестанных набегов варваров и соседей. Среди густых лесов Луарского края как бы затерялся крохотный клочок земли обетованной, куда стекались беженцы и изгои, чтобы познать хоть ненадолго покой и достаток. Поистине то, что он видел сейчас, было сущим благословением Господним, и юный Ги, переживший за стенами обители Святого Мартина не один набег, повидавший немало осад и стычек, непременно бы вознес хвалу Создателю за то, что в этом страждущем мире остается хоть один уголок, где человек может отдохнуть от бедствий и разбоя, но юноша все еще не мог оправиться от потрясения, охватившего его после встречи с невестой. Больше того, глядя, как рыжеволосая тонкая фигурка льнет к парню в красной тунике, как кокетничает и смеется Эмма, мелькая среди гремящих панцирями ратников его отца, он испытывал жгучую ревность и странное, доселе незнакомое ему чувство – обделенности. И это был он, наследник могущественного графа, которого так пестовали монахи в Туре, которого так баловали и превозносили отец и его приближенные!
Он не заметил, как к нему бесшумно приблизилась графиня Пипина, ибо видел лишь то, что после установки майского шеста Эмма, хохоча, повисла на шее парня в красной тунике. Невольно сжав кулак, Ги с досадой хватил им по резному столбу галереи.
– Господь свидетель, тебе не о чем беспокоиться, – услышал он рядом негромкий голос Пипины из Байе. – Это всего лишь Вульфрад, сын Одо, местного кузнеца. И хотя он свободный франк и уже сам неплохой кузнец, и, пожалуй, самый завидный жених для сельских красавиц, однако беру небо в свидетели, никогда Эмма Птичка не станет женой пахотного человека.
Она с любопытством заглянула в побледневшее лицо племянника.
– Клянусь могилой моего горячо любимого супруга Беренгара, Эмма твоя и только твоя, Ги Анжуйский. А кузнец Вульфрад, сын Одо, может выбирать любую из заглядывающихся на него пригожих дочерей свободных франков, которые ровня ему.
Юноша продолжал глядеть на луг. Рука его крепко сжимала нагрудный крест.
– А не кажется ли вам, сударыня, что ваша дочь сама выбрала этого франка?
Пипина медленно покачала головой и улыбнулась, увидев, какими глазами смотрит юноша на Эмму, которую тем временем Вульфрад легко усадил себе на плечо.
– Нет, Ги. Она забавляется, уверяю тебя. Я ведь знаю, как моя дочь стремится поскорей покинуть лес и, увы, вырваться в мир. Но я отпущу ее туда лишь тогда, когда вы станете мужем и женой и ее сможет защитить мужчина из рода Анжельжер. Поверь мне, мой мальчик, Эмма ждала тебя все эти годы. А теперь успокойся и идем. Мы с твоим отцом должны обсудить все, что необходимо для совершения вашего брака.
Майские песни полны любовного томления, и тем не менее справлять свадьбу в мае – дурная примета. Именно поэтому венчание Ги и Эммы решено было перенести на конец июня. Фульк и Пипина при посредничестве повеселевшего после отведывания доброго со-виньерского вина преподобного Ирминона, установили размер выкупа за невесту и приданого. Присутствие жениха и невесты при сговоре считалось совершенно не обязательным, однако Ги слышал каждое их слово, сидя за длинным столом, где женщины и послушники расставляли угощение. Юноша молчал, пристально наблюдая за молодежью у шеста. Он слышал разговоры о свадьбе, но они не радовали его сердце. Нет, он больше не настаивал на своем желании надеть монашеский клобук. Теперь он был готов взять в жены так поразившую его девушку. Но сама Эмма… Как она веселилась на лугу подле майского шеста! Ее избрали королевой мая, и она снова пела, а затем повела хоровод, обходя все селение и останавливаясь у каждого дома с заздравной песнью, крестьяне же в обмен на зелень и поздравления подносили поющим угощения, которые тут же передавались детям, и те, борясь с искушением немедленно все попробовать, бегом неслись к церкви, где вручали лакомства монахам для общего стола. Эмма же вновь и вновь оказывалась над толпой, на плечах Вульфрада, и Ги, бог весть почему, злился на нее, разрываясь между желанием вместе с дружинниками отца присоединиться к праздничной процессии и гордостью, требовавшей оставаться с отцом, графом Анжу, памятуя о высоте своего рождения. Стоило показать этой лукаво поглядывающей в его сторону кокетке, что он не намерен из-за нее связываться с каким-то там сыном кузнеца. Да и что он, каллиграф и книжник, мог противопоставить плечистому Вульфраду, который даже среди рослых и крепких, как на подбор, дружинников Фулька выглядел равным? Ги слышал, как его отец спрашивал у отца Ирминона, кто сей детина, лит он или свободный франк и может ли он взять его к себе в дружину. Ирминон тут же поднял шум, вопя, что дай Фульку волю, он половину селения увел бы в ратники, на что Фульк огрызался – мол, Ирминон, похоже, никак не возьмет в толк, что говорит с правителем этого края, который может вершить суд и расправу где вздумает. Настоятель же колотил о столешницу кулаком, твердя, что земля Святого Гилария-в-лесу принадлежит церкви, и у него имеются верные грамоты, подтверждающие это.