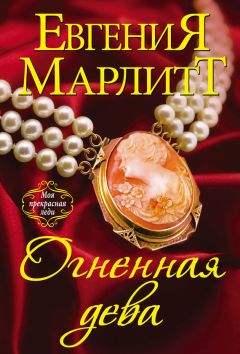– Нет, – возразила Лиана совершенно спокойно, и, вынув розетку из футляра, она отодвинула у нее на задней стороне пластинку. – Вам, вероятно, известен герб герцога фон Тургау, господин гофмаршал? Тогда потрудитесь убедиться, что он вырезан внутри розетки. Я получила ее в наследство с отцовской стороны. И вы, конечно, сознаете, что для внучки герцогини фон Тургау подобная ошибка или, как вы предполагаете, промах совершенно невозможны.
– Ради бога, дорогая моя! – воскликнул старик теперь уже с непритворным замешательством. – Неужели я так неловко выразился, что вы совершенно не поняли меня? Невозможно. Нельзя же высказать того, что и в ум не приходило. Впрочем, я все-таки был прав, допустив в этом случае ошибку. В нашем семействе есть точь-в-точь такой же фермуар.
– Я знаю… в моей гардеробной стоит сундучок с фамильными бриллиантами Рауля, между которыми он хранится; вскоре по моем приезде сюда я все их проверила по описи.
– Говоря иными словами, вы тотчас же вступили во владение ими, хотя за это я и не думаю осуждать вас. Ввиду этого богатства вы имели полное право возвратить остатки прежнего величия вашего дома сестре вашей Ульрике: вам они больше не нужны, а ей будут очень кстати.
Он говорил это язвительно, и злобная улыбка искажала его лицо. Лиана делала нечеловеческие усилия, чтобы удержать слезы, проступавшие у ней на глазах, и, заметь их старик, она пропала бы. Подняв с пола ящик, она поставила его на письменный стол с редкостями, у которого сидел гофмаршал.
– Вы ошибаетесь, господин гофмаршал, – возразила она, прямо глядя ему в лицо, – я буду чтить память вашей дочери и никогда не стану носить бриллиантов, которыми она когда-то украшала себя. Я только проверила их по списку, так как должна отвечать за них… Вы ошибаетесь и в том, если думаете, что я посылаю свой фермуар обратно в Рюдисдорф для того, чтобы Ульрика могла щеголять «остатками прежнего величия». Как засмеялась бы при этой мысли моя Ульрика!..
Лиана пропустила лежавший на столе ножик для разрезания бумаги между остатком крышки и ящиком, вынула оттуда целую кипу бумаги с высушенными растениями и отложила их в сторону, а также какой-то плоский предмет, завернутый в голландскую бумагу, по-видимому картину; потом обернула ящик вверх дном и стукнула по дну пальцем.
– Кроме наследства от моей бабушки, в ящике нет ничего ценного, – проговорила она сурово, едва переводя дух, и гордо посмотрела на старика, впалые щеки которого покрылись легким румянцем стыда: наказание было вполне заслужено им.
– Боже милостивый, к чему это доказательство? – воскликнул он. – Не должен ли я извиняться, когда я не имел и мысли оскорбить вас… Могу ли я когда-нибудь сомневаться в вашей правдивости?.. Я всегда верю вам на слово, верю во всем, даже если бы вы сейчас сказали мне, что отсылаете домой фермуар, чтобы повесить его на шею маменькиной собачки.
Его голос звучал слишком дерзко, а злобная насмешка, кривившая его губы, заставила вспыхнуть молодую женщину. Она уже намеревалась повернуться к гофмаршалу спиной и выйти из комнаты, как увидела, что придворный священник, до сих пор хранивший молчание, вдруг сделал резкое движение и бросил такой взгляд на гофмаршала, точно хотел пронзить его своими огненными глазами… Не собирался ли он защищать ее?.. Не переживала ли она теперь одну из тех «тягостных минут», в которые он желал прийти на помощь ей? Нет, никогда не протянет она даже кончика пальца этому священнику, который, со всею предоставленною ему светскою властью, забирал в свои железные оковы все человеческие души, какие ему только попадались.
– Такие глупости мне и в голову не приходят, – сказала она, быстро овладев собою, чтобы не дать времени священнику вмешаться в их разговор. – Я дочь Трахенбергов, а они всегда слишком серьезно смотрели на жизнь, чтобы поступать так детски наивно… К чему мне скрывать это? Весь свет знает, что мы обеднели; я посылаю розетку матери, чтобы дать ей возможность ехать на воды.
– Э, что вы мне такое рассказываете? – засмеялся гофмаршал. – Или я должен осуждать вас, что вы так чрезмерно скупы? Вы получаете до трех тысяч талеров на булавки.
– Я думаю, исключительно от меня зависит, как распоряжаться этими деньгами, – прервала она его серьезно.
– Конечно, я не имею права спрашивать, обращаете ли вы их в банковые билеты или обшиваете ими ваши кисейные платья… Впрочем, можете ли вы иметь понятие о стоимости драгоценных камней? – Тут он презрительно ткнул пальцем в лежавший на столе футляр. – Вещь эта не стоит и восьмидесяти талеров… О боги! Восемьдесят талеров для поездки на воды графине Трахенберг!
– Эта вещь уже раз была оценена, – возразила она, стараясь владеть собою. – Я знаю, что выручка за нее недостаточна. Именно потому я…
Лиана, не договаривая, остановилась, и яркая краска разлилась по ее нежному лицу. Она увлеклась и сказала больше, чем позволяло благоразумие.
– Ну-с? – спросил гофмаршал и, нагнувшись вперед со злобной улыбкой, устремил на нее взгляд.
– Я прибавила еще вещь, которую Ульрика продаст не менее как за сорок талеров, – докончила она с глубоким вздохом и уже не таким твердым голосом, как прежде.
– Да откуда же у вас такие необыкновенные ресурсы?.. Уж не этот ли предмет? – указал он на сверток, обернутый в голландскую бумагу, на который она нечаянно положила руку. – Если не ошибаюсь, это картина?
– Да.
– Вашего собственного изделия?
– Да, я сама рисовала ее.
Она прижала руки к груди, точно у нее недоставало дыхания. С быстротою молнии представились ее воображению Рюдисдорфский замок и мать, выбросившая сочинение Магнуса на каменные ступени террасы.
– И эту картину вы хотите продать?
– Я уже прежде говорила вам об этом. – Она не подняла глаз, зная, что встретит взгляд, горящий полным торжеством, – так медленно и знаменательно был предложен ей вопрос. Это была возмутительная игра кошки с мышью.
– У вас, верно, есть какой-нибудь любитель, богатый друг и меценат, посещающий Рюдисдорф и считающий своею обязанностью щедро оплачивать подобные произведения искусства?
Теперь она победила свое ужасное внутреннее волнение, к ней возвратилось совершенное спокойствие, помогающее быстро принять твердое решение.
– Я, разумеется, не прибегала к такого рода приобретениям, похожим как две капли воды на нищенство, и предпочла продавать свою работу купцам, – сказала она совершенно спокойно.
Гофмаршал подскочил как ужаленный.
– Это значит, другими словами, что вы до своего замужества трудами своих рук зарабатывали хлеб?
– Отчасти да!.. Я знаю, что этим признанием предаю себя всецело в ваши руки; знаю также и то, что делаю свое положение в доме еще нестерпимее, но я предпочитаю все это тяжелому бремени вечной тайны, которая губит душу. Я не хочу и не могу продолжать здесь того, что принуждена была делать в Рюдисдорфе, чтобы не раздражать матери.