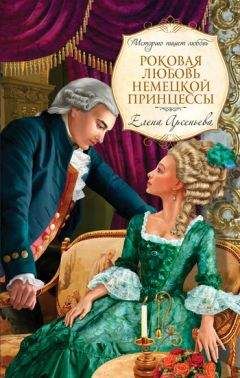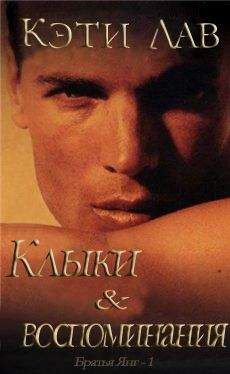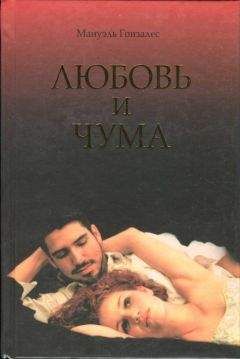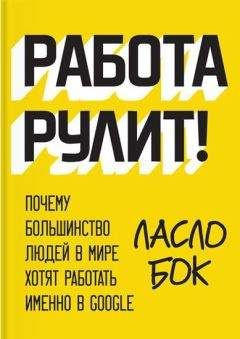Он свободно вошел в дом через распахнутое окно на террасе. Никто его не остановил, никто ему не помешал. Он крался по дому так свободно, словно заранее знал здесь каждый поворот, каждую ступеньку. И вот из-за какой-то двери донесся сладострастный женский стон.
Лормуа распахнул дверь. Игривое пламя свечей металось из стороны в сторону над широкой кроватью, колеблемое неистовыми движениями мужского тела. Смуглая сильная спина, изящное сплетенье мышц, лоснящаяся от пота кожа, игра теней на скульптурной полоске позвонков… темнокудрая растрепанная голова… И нежное, белое женское тело вдавлено в постель, раздавлено этим смуглым мужским телом. Светлые волосы разметались по подушке…
При виде этой незнакомой женщины Лормуа почувствовал страшный, неодолимый приступ ревности. Он не знал ее имени, не видел ее лица, однако ненавидел ее, как злобную воровку, которая украла самое дорогое, что только у него было.
Она лежала с де Варансом… она наслаждалась его красотой…
С диким визгом Лормуа ворвался в спальню и подскочил к кровати. Выдернул из-под полы склянку, вырвал из нее пробку – и с размаху плеснул на обращенное к нему прекрасное лицо виконта де Варанса.
Время, чудилось, стало тягучим, словно патока… горькая, отравленная патока. Лормуа видел, как брызги на мгновение замерли в воздухе. Медленно-медленно долетели они до кожи, медленно впились в нее… медленно вспенились, зашипев… и прежде чем де Варанс испустил крик невыносимой боли, Лормуа увидел лицо женщины, которая все еще совокуплялась с ним, все еще оставалась неразрывно связанной с его телом.
Франсуаз! Это она, это ее нежные черты… В следующий миг кислота впилась в щеки и глаза Франсуаз…
Ее крик, чудилось, пронзил голову Лормуа.
Преступник кинулся вон… Вот теперь слуги, доселе крепко спавшие, очнулись. Откуда-то взялись собаки, которые гнались за ним…
Он больше ничего не помнил о том, что было дальше. Он знал, что в Париже ему оставаться нельзя. Де Варанс умер от невыносимой боли. За убийство виконта и тяжкие повреждения, которые были нанесены его любовнице, Франсуаз Сосеро, он был объявлен вне закона, полиция преследовала его до самой границы… Он исчез в Лотарингии, канул, как сквозь землю провалился.
Ганс Шнитке проснулся.
Приснится же такое, а? Что ему до какого-то Лормуа?! Художник… хм! Все художники – пьяницы, а он вина в рот не берет.
Однако он проспал довольно долго, даже шея затекла.
За окнами шумел дождь. Брр, как там сыро и холодно…
Ганс Шнитке приподнялся, попытался сесть поудобней, однако что-то мешало. Почему-то в карете стало очень тесно, как будто он сидел там не один. Первой мыслью было, что кучер, которого дождь согнал с козел, решил тоже устроиться внутри.
Ну это наглость! Не про него честь!
Ганс Шнитке резко шуранул локтем вправо и влево, еще не вполне поняв, с какой стороны сидит кучер, однако в ту же минуту что-то воткнулось в его правый бок – что-то острое, холодное, – а слева раздался столь же холодный и резкий женский голос:
– Doucement! Doucement, je t’ai dit![21]
* * *
За столом все даже дышать перестали, такой ужас вызвал у всех вопрос великой княгини.
– Ну-у-у, – протянула Екатерина, – думаю, когда я Богу душу отдам, раньше-то вряд ли получится.
Наступила пауза. Разумовский нервно заерзал, и, кажется, до Вильгельмины вдруг дошло, какую несусветную глупость она спорола. Так забыться было бы допустимо неотесанной девчонке, но отнюдь не принцессе, не великой княгине. Это была та простота, которая хуже воровства, потому что одним махом Вильгельмина выдала свои затаенные надежды, признаваться в которых, конечно, было никак нельзя.
Впрочем, она немедленно спохватилась и попыталась исправить содеянное.
– Я надеюсь, – проговорила Вильгельмина, улыбаясь очаровательно, так, как только она одна и умела, – вы покинете сей свет еще очень даже не скоро («Надеюсь, что скоро, как можно скорей!»), ведь у вас великолепное здоровье для вашего возраста («И выглядишь ты так, что краше в гроб кладут!»), поэтому у меня будет время неторопливо выучить русский язык («Вот еще! Да никогда в жизни! Скорей вся эта несчастная Россия заговорит по-немецки!») и проникнуться уважением к культуре русского народа.
Что и говорить, эта красивая молодая женщина обладала незаурядным обаянием. Сила ее очарования была такова, что всем обедающим стало казаться, что она и впрямь не допустила никакой бестактности, а просто сделала императрице не вполне удачный комплимент. Хотя Екатерина-то улыбалась все еще несколько принужденно…
Маркиз де Верак, которому очень хотелось завоевать расположение великой княгини, с истинно французской галантностью бросился на выручку.
– Русский народ – великий народ, – сказал он внушительно. – Однако он изрядно легковерен. Как можно было поверить, что какой-то безграмотный казак и впрямь окажется воскресшим императором Петром Федоровичем!
– Может быть, он был похож на покойного императора чертами лица? – наивно подхватила Вильгельмина. – Поэтому люди ему поверили?
– На покойного императора чертами лица похож ваш супруг, – резко ответила императрица (к слову сказать, она не переставала дивиться этому сходству своего чухонца с покойным императором… они не были отцом и сыном, а между тем обладали почти мистическим сходством как лиц, так и характеров!). – Вы можете сличить его лицо с портретом Пугачева. Мне недавно доставили небольшой портрет мятежника, – и она махнула стоящему у дверей Зотову, приказывая подать портрет. – Извольте сами убедиться, есть ли тут хотя бы отдаленная похожесть.
Принесли миниатюру, которая тотчас пошла по рукам. Ее приближали к глазам, отодвигали, в нее пристально всматривались, но, хоть убейте, никто не мог в четких, правильных, хотя и недобрых чертах этого темноволосого и темнобородого человека с умными черными глазами усмотреть даже намек на сходство с Петром.
– Что и говорить, – наконец сказала императрица, – черты изобличают в нем человека незаурядного. Жаль, что все дары, отпущенные ему природою, он обратил во зло!
Об этом же подумали все присутствующие, однако сочли своим долгом разуверить императрицу: мол, никакой незаурядности в нем нет, мужик и мужик!
– И все же я не пойму, – с прежней назойливой наивностью проговорила Вильгельмина, – почему он назвался именно Петром Третьим? Неужели покойный император был так популярен в народе? Или Пугачев в глазах народа был отмечен особым величием, поэтому ему так поверили?
За столом немедленно воцарилась поистине гробовая тишина, и Вильгельмина дорого дала бы сейчас, чтобы вернуть эти столь неосторожно сорвавшиеся с языка слова. Она перехватила недовольный просверк между ресницами Разумовского, однако это ее не напугало, а разозлило.