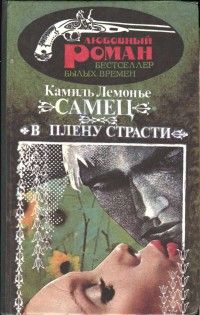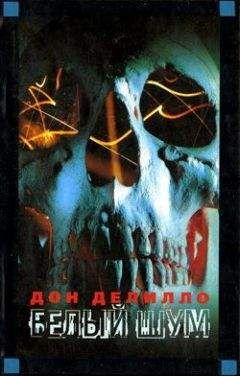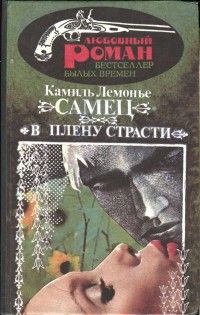Она мечтала тогда стать снова прежней беспечной и спокойной девушкой. Тогда ничто не тревожило ее жизни; тогда она каждый час трудилась и весь день проходил своей правильной чередой. А ныне на нее находила под вечер лень. Сущность ее жизни заключалась в бесцельном шатаньи сытого человека и вызывала в ней отвращение к ее обычным занятием.
Эта пресыщенность, вначале смутная, под конец внесла обострение в их встречи. С рассеянным взором глядела она через голову своего возлюбленного. Безмолвие маленькой лачужки, окутывавшей тайной их любовь, начало ей прискучивать и казаться слишком тяжелым и пустым.
Он говорил ей все время о лесе, животных, об утренней заре, которая, рассветая, тихо колеблет верхушки деревьев. Она ему едва внимала, с машинальной улыбкой или же насупливала брови от нетерпения. Зевота подкрадывалась к ней.
Раз он устроил ей сцену.
— Скажи, тебе это, видно, все уже надоело, ну, скажи?
Его голос выходил из груди хрипло и твердо, кулаки его сжимались. Она боялась его гнева и потому ответила неопределенно:
— Откуда ты это взял?
Он сделал движение, как бы готовый все разрушить кругом себя, и вдруг встал со скрещенными на груди руками.
— Скажи лучше теперь! У меня еще хватит свинца на нас обоих.
Она подняла глаза, охваченная дрожью. Холодное решение омрачило ее лицо.
— Глупый, — сказала она. — Разве я не такая, как всегда?
Он вскинул головой.
— Нет, нет, не такая!
Она пожала плечами — нежно и вместе с тем угрюмо.
Он встряхивал головой, не произнося ни слова. И при виде его страдания ею овладело чувство страсти, и она вскочила к нему на колени.
— Погляди на меня!
Сидя с опущенной головой, парень медленно поднимал глаза и искоса взглядывал, как пес, продолжающий ворчать на побившего его хозяина. Его стеклянные зрачки светились бешенством и лаской.
— Ну, что? — ворчал он.
Она смеялась ему в лицо, обнаруживая свои десны.
— Ну и вот, — говорила она. — Ты разве не видишь, как я люблю тебя?
Тогда сладострастие обессилило его. Он взял ее голову, начал целовать, в то же время у него вырывались вздохи, с которыми мало-помалу выходило страдание, как выходит воздух из лопнувшего меха. Он с силой бросил на пол фуражку и воскликнул:
— Черт возьми, — я самый презренный трус.
Она кинулась к нему, прижимаясь своей упругой грудью к его груди. Он отстранил ее.
— Ты умеешь только ластиться. Мы расстанемся навсегда.
Но сила его подавалась. Он склонился перед ней, привлеченный ее смелыми и полными ласки руками, умоляя ее лишь о том, чтобы она была ему верна.
Но в нем все еще оставалось сомненье, словно глухая боль раны, которая перестала сочиться кровью, и терзания сердца разъедали его. Она заметила это.
— Ты в чем-то подозреваешь меня, — говорила она ему, крепко целуя его в затылок.
Он боялся бередить это страдание, колебался, отрицательно мотал головой. Но она настаивала, и он решился высказать. Да, правда, его мучили сомнения. Ей стало скучно с ним. Разве она не зевнула недавно. И потом всегда торопилась уходить. Два дня подряд не приходила совсем. Она хотела незаметно порвать с ним. Да! Это было ясно, как день. Жермена пожимала плечами.
— Это неправда!
И она чувствовала себя снова захваченной потоком желания заставить его забыть ее охлаждение, утешая его нежностью и успокаивая его страдание ложью.
Так продолжалось несколько недель. И снова появилось утомление. Она хотела бы найти случай не видеть его некоторое время. Эта полнота страсти пресытила ее. Им стало бы обоим приятнее после короткой разлуки. И она старалась подыскать средство передать ему об этом нежно и мягко, так, чтобы не рассердить его.
Но он любил не так, как любила она. Он хотел бы ее всю безраздельно и навсегда. Он хотел бы проводить дни и ночи возле нее, смотреть, как живет она, и жить ее жизнью. И этой привязанностью, подобной привязанности животных, было проникнуто все его существо.
Никакой хитрости не примешивалось к страсти его к Жермене. Он любил ее, как зверь — доверчиво и простодушно.
Было странно, что лукавство, которое до утоления страсти исходило от парня, перешло к девушке после ее удовлетворения. Она хитрила, чтобы он ее покинул, как раньше он хитрил, чтобы она ему отдалась. Однажды она подумала, что наступил подходящий момент. Она взяла его голову, прижала к своей груди с долгой и нежно-баюкающей лаской.
— Правда то, что мы слишком влюблены с тобой друг в друга, — сказала она ему. — Говорят, что любовь непрочна, если очень сильна.
Он бросил на нее рассерженный взгляд.
— Скажи им, что они наврали. Я это чувствую хорошо.
Она промолчала и промолвила:
— Говорят так. Я не знаю. Но, чтобы любовь была продолжительна, не надо часто видаться, это правда! Например, женатые…
— Ну и что же?
— … перестают любить друг друга. О! конечно, это правда.
Он тряхнул головой.
— Я ведь прекрасно вижу, к чему ты гнешь!
Ее охватил незаметный трепет, и она, подняв на него глаза, сказала:
— К чему?
— Сейчас скажу. Ты — барышня, а я совсем простой. Вот ты и задумала. Я тебя стесняю.
Он сопровождал каждое слово кивком головы, спокойный, с некоторым лишь волнением в голосе. И прибавил:
— Так, значит, ты связалась со мной так, чтобы позабавиться. Я был в твоих руках игрушкой… Разве не так?
Она зажала его рот рукой.
— Ты ведь знаешь, что это не так.
— Ну, тогда как же?
— А так же. Я хочу только сказать, что если реже видаться, то приятнее потом снова встретиться.
Он слушал ее с грустным изумлением.
— Ты — больше мужчина, чем я, — сказал он наконец. — А я, чем больше тебя вижу, тем больше хочется мне видеть тебя.
Тишина наступила в комнате, ставшей вдруг унылой, как кладбище, а за стеной гудел ветер в высоких деревьях и тяжко встряхивал их. Он промолвил:
— Ты хочешь, чтобы я оставил тебя на время, так, скажи?
Его голос дрожал. Она вперила свои глаза в глубину его глаз, беспокойно, не смея сказать «да» и не доверяя его спокойствию. И вдруг рассмеялась:
— А может это было бы лучше, мой милый!
Он опустил голову, страдая и, однако, радуясь, что может угодить ей хотя бы ценою огромной жертвы.
Три дня они не встречались, и все-таки она первая почувствовала желание его видеть и покориться ему.
Она побежала к Куньоли. Он бродил по лесу, сторожил, поджидал ее, надеясь, что она все-таки придет. Исхудавший, истомленный, с диким взором, он носил в своих чертах страдание томительного ожидания.
— Ты, видишь, я иду! — кричала она ему издали.