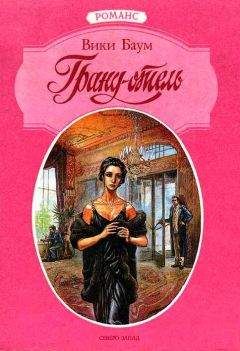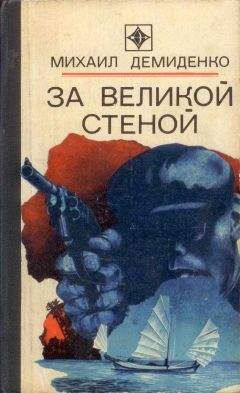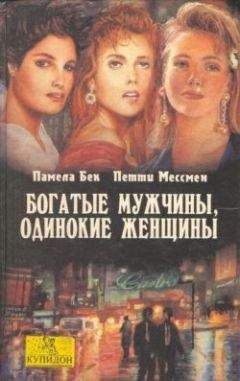— Вы довольны теперь? Вы счастливы? Примирились с жизнью? — изредка спрашивал Оттерншлаг. И Крингеляйн четко без задержки отвечал:
— Так точно.
В этот вечер, когда в театре шел уже пятый спектакль с участием Грузинской, публики было мало, можно сказать, ее просто не было. Полупустые ряды партера казались побитыми молью проплешинами. В первом ярусе среди незанятых кресел сидеть было холодно и неуютно. Крингеляйн озяб, ему становилось не по себе. Кроме ложи просцениума, которую они взяли по совету Оттерншлага (Крингеляйн желал сидеть только на самых лучших местах: в кинематографе — в последних рядах, в театре — впереди, в партере, на балете — в ложе первого яруса), — кроме их ложи, которая обошлась в сорок марок, во всем театре занята была лишь еще одна, и сидел в ней импресарио Майерхайм. В этот вечер он решил сэкономить на клакерах, да и нельзя было позволить себе такой расход: труппа прогорала немыслимо. Перед антрактом раздались жидкие аплодисменты. Пименов велел поскорей снова поднять занавес, Грузинская улыбаясь вышла на сцену. Она улыбалась безмолвному залу — слабые хлопки умерли, не успев по-настоящему родиться, публика быстро покидала зал, спешила к буфету. И в лице Грузинской тоже что-то умерло в минуту, когда она вышла на сцену, чтобы поблагодарить публику за аплодисменты, которых не было. Ее лицо под слоем грима и каплями испарины похолодело. Витте отбросил дирижерскую палочку и поспешил на сцену, карабкаясь из оркестровой ямы по маленькой железной лесенке. Ему стало страшно за Елизавету. На сцене стоял Пименов, лицо у него было как на похоронах, рабочие толкали его в спину; перетаскивая реквизит, задевали его согнутые старческие плечи. Пименов был во фраке — каждый вечер он неизменно наряжался во фрак, словно ждал, что его пригласит к себе в ложу великий князь Сергей. Михаэль, с леопардовой шкурой из пятнистого плюша на левом плече, с голыми напудренными ногами, смиренно стоял в отдалении и ждал. Рядом с ним стоял помощник режиссера. Все со страхом ждали взрыва гнева Грузинской и дрожали в прямом и переносном смысле — у всех тряслись колени, руки, плечи, губы.
— Извините меня, мадам, — прошептал Михаэль. — Pardonnez-moi[8]. Это я виноват. Я вас подвел.
Грузинская с отсутствующим видом прошла среди пыли и шума сцены, где меняли декорации. Волоча за собой старый шерстяной халат, она подошла к Михаэлю и поглядела на него так кротко, что все испугались.
— Ты? О, вовсе нет, дорогой мой, — тихо сказала она. Ей пришлось преодолевать дрожь и слабость голоса, который плохо ей повиновался, кроме того, она все еще не отдышалась после трудного танца, последнего в первом акте. — Ты все сделал прекрасно. Ты сегодня в блестящей форме. Я тоже. Мы все танцевали прекрасно.
И вдруг она отвернулась и быстро пошла прочь, унося последние слова с собой, в темноту. Витте не посмел последовать за нею. Грузинская села на ступеньку деревянной, выкрашенной золотой краской лестницы, которая стояла среди нагромождения реквизита, и просидела там весь антракт, пока ставили декорации второго акта. Сначала она обхватила руками колено, обтянутое шелковым телесного цвета трико, машинально развязала и снова завязала крест-накрест обвивавшие ногу ленты балетных туфель, потом несколько минут поглаживала эту усталую, шелковую, грязную от пыли ногу, словно какого-то зверька, — рассеянно, с легкой жалостью. Потом обхватила руками свои обнаженные плечи. Ей очень недоставало сейчас жемчужного ожерелья. Обычно, желая успокоиться, она, словно четки, перебирала пальцами гладкие жемчужины. «Чего вам еще? Чего вы еще от меня хотите? — думала она. — Танцевать лучше, чем сегодня, я не могу. Никогда я не танцевала так хорошо, как сегодня. Даже в юности. Даже в Петербурге, в Париже, в Америке. Тогда я была глупа и не очень старалась. А теперь… О, как много я теперь работаю! Теперь я научилась. Теперь я умею танцевать. Так чего же вам еще? Больше я ничего не могу. Надо пожертвовать жемчуг? Отдать кому-нибудь? Я не против. Ах, оставьте меня! Все оставьте. Я устала».
— Михаэль, — позвала она шепотом проскользнувшую мимо, за опущенным задником, тень.
— Да, мадам? — робко и предупредительно откликнулся Михаэль. Он уже переоделся, теперь на нем был коричневый бархатный жилет, в руках он держал лук и стрелу: после антракта у него был первый выход. — Вам не пора переодеться ко второму акту, Гру? — спросил он, с огромным трудом не позволив своему голосу дрогнуть от сострадания, — Грузинская выглядела такой несчастной и сломленной среди нагромождения реквизита. Звонки помощника режиссера зазвонили сразу в восьми уборных.
— Михаэль, я устала, — сказала Грузинская. — Хочу домой. Пусть вместо меня танцует Люсиль. Никому ведь нет дела до замены. Публике наплевать, кто танцует, я или другая.
Михаэль испугался настолько, что все мускулы его тела разом напряглись. Грузинская сидела на нижней ступеньке лестницы, колени Михаэля были как раз перед ее глазами, она увидела, как напрягся красивый мускул на бедре. Непроизвольное движение этого тела, которое она так хорошо знала, немного ее утешило. Михаэль, бледный под слоем грима, воскликнул:
— Нонсенс! — От ужаса он забыл о вежливости.
Грузинская мягко улыбнулась и, вытянув вперед руку, коснулась ноги Михаэля.
— Сколько раз тебе повторять — не танцуй с голыми ногами, — сказала она удивительно добродушно. — Без трико никогда не станешь по-настоящему гибким, не разогреешься как надо. Уж поверь мне, ты, революционер. — Она прижала ладонь к теплой напудренной двадцатилетней коже, под которой играли мускулы. Нет, это прикосновение не придало ей сил.
Звонки в третий раз позвали на выход, на сцене, по ту сторону задника с нарисованным на нем храмом, зашуршали туфли танцовщиц кордебалета. По коридору, в который выходили двери уборных, беспокойно, словно всполошившаяся курица, металась перепуганная Сюзетта. Она волновалась, видя, что мадам сидит на лестнице и не идет переодеваться. Витте, уже занявший свое место за дирижерским пультом, трясущейся рукой взял палочку, он не сводил застывшего взгляда с лампочки, которая должна была вот-вот загореться красным светом и дать знак к началу второго акта.
— О чем вы думаете? — спросил в ложе доктор Оттерншлаг. Крингеляйн как раз вспоминал Федерсдорф — пятно солнечного света, которое в летние полдни ложилось на грязно-зеленую стену в сумрачном помещении бюро по начислению жалованья. Но Крингеляйн тут же с радостью вернулся в Берлин, в театр, в окружение позолоченных лепных завитушек, в обитую бордовым бархатом ложу за сорок марок.
— Тоска по родным местам? — снова спросил Оттерншлаг.