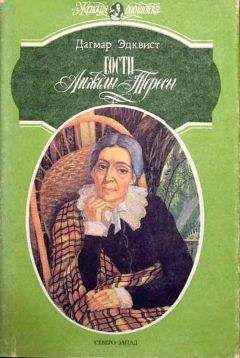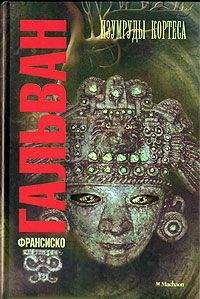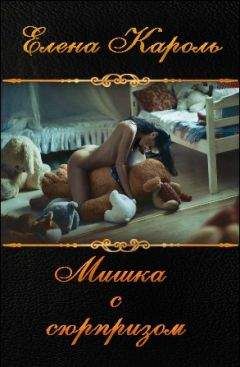У него были все основания рассчитывать на свой авторитет. Когда только что туда приходил Давид, это был женский монастырь, куда лицам мужского пола вход воспрещен, кроме специально отведенных часов посещения. А когда с сестрой-привратницей поговорил Туре Стенрус, а сестра-привратница сходила за матушкой-настоятельницей, то теперь это уже была больница, где были рады видеть знаменитого доктора из другой страны. А также — хотя и с меньшим удовольствием — и лиц, составляющих свиту знаменитого доктора.
Они зашагали через прохладные сумрачные сени, через залитые солнцем внутренние дворики, вверх по темной лестнице, через выбеленный известкой коридор, вскоре раздвинувшийся в приемную. Там стояла высокая скамья с прямой спинкой, наподобие хоров в церкви.
Движением руки настоятельница предложила им присесть.
— Мне бы хотелось немедленно переговорить с врачом, — обратился к ней Стенрус.
Ее тонкая рука в широком рукаве вспорхнула в непререкаемо отклоняющем жесте.
— Доктор сейчас оперирует, ему нельзя мешать. Посидите пока здесь. Вероятно, это не займет много времени. — И удалилась, вежливо отступая к дверям. Над ее авторитетом был не властен даже Стенрус.
Дверь распахнулась, выкатили носилки. Обычные, выкрашенные в белый цвет больничные носилки, окутанные запахом дезинфекции, — но по белому монастырскому коридору их везла монахиня в своем средневековом одеянии. На носилках без сознания лежала Люсьен Мари.
Давид громко перевел дыхание. Он уставился в изумлении, все уставились в изумлении — на приближающихся носилках лежала женщина с грудным ребенком.
Нет, конечно, никакой это был не ребенок, а просто рука Люсьен Мари, положенная высоко на подушку и перевязанная, как толстый узел из ваты и бинтов.
Еще в своем забрызганном кровью халате и темных резиновых перчатках вошел молодой врач, держа что-то очень маленькое между указательным и большим пальцем.
— Посмотрите! — сказал он, показывая Давиду маленький острый кусочек стекла. — Этот инфицированный осколок парижский хирург взял и зашил ей в руку… Ничего удивительного, что снаружи все залечилось, а в глубине образовалась инфекция!
Это был вполне понятный триумф молодого и неуверенного в себе провинциального врача, прекрасно понимающего, что все эти иностранцы нисколько не верят в его умение. Доктор Стенрус представился ему, и оба врача погрузились в обстоятельную беседу о пенициллине и ревизии раны, о путях распространения инфекции и угрожающем истаивании лимфатических узелков.
Давид их не слушал, он быстрым шагом пустился догонять носилки. Он догнал их в тот момент, когда монахиня открыла дверь в одну из палат. И отпрянул назад. На мгновение он увидел смутную картину, но с деталями в стиле сюрреализма: женщин в постелях — белые расплывчатые лица под черными копнами волос, коричневые, как земля, морщинистые лица с льдисто-серыми космами, женщин сидящих, женщин лежащих, сгорбленные спины, руки, перебирающие одеяло… Казалось, он заглянул прямо в «Desastres»[10] Гойи.
— Сеньор, — остановила его молодая монахиня. — Мужчинам входить в палаты запрещено.
— Но ради бога, дайте ей отдельную палату!
Монахиня сказала, тактично опустив глаза:
— Тогда надо доплатить, а это дорого…
— Сколько же?
— Сейчас узнаю.
Сестра-монахиня поставила носилки в освещенную солнцем оконную нишу и ушла, добавив заботливо:
— Если она проснется и ее будет тошнить, поверните ей голову на бок.
Но Люсьен Мари лежала неподвижно.
Давид зашел поглубже в нишу и сосчитал все, что у него было в бумажнике. Пока есть деньги, Люсьен Мари будет иметь самый хороший уход, какой только можно здесь получить.
Она пошевелилась, слегка застонала. Давид нагнулся над ней, спросил нежно:
— Больно тебе?
Она пробормотала, как во сне: да, очень больно… Тут она открыла глаза и увидела свою забинтованную руку. Зрачки ее расширились: она смотрела и смотрела на этот ватный узел, где открытый кусочек руки казался розовой щечкой, и на ее лице гримаса боли и горячечного бреда сменилась самой женственной мягкой улыбкой.
Она сделала бессильное, ласковое движение к своей неподвижной руке и опять скрылась в безвестные туманные дали.
У Давида сжалось сердце. Она, значит, тоже увидела грудного ребеночка, а не комок ваты, но в своем горячечном бреду восприняла его как реальность. И ты тоже, подумал Давид, и это почему-то до глубины души его взволновало.
Молодая монахиня вернулась со старшей сестрой, назвавшей условия доплаты за отдельную палату. В шведской валюте это было недорого.
— Она так и не просыпалась? — спросила сестра, посмотрев на Люсьен Мари.
— Нет, — пробормотал Давид, и ему почудилось, что он скрывает какую-то тайну.
Они повернули носилки и повезли их через боковой коридор к двери в палату, белую и голую, как тюремная камера. Окна палаты выходили в один из монастырских дворов, и там росло дерево с сочными зелеными листьями. Так приятно было о нем знать, если даже монахини, спасая комнату от солнечных лучей, сразу же спустили деревянные жалюзи.
Сестры ждали, пока он уйдет, чтобы уложить Люсьен Мари в постель.
— Я еще приду, — сказал Давид.
Он встретил доктора с госпожой Стенрус внизу, во внутреннем дворике, оказывается, они заблудились в бесконечных коридорах, разыскивая его в другой половине монастыря.
— Ты недооцениваешь доктора-испанца, — покачал головой Стенрус, — То, что он сделал, было самым целесообразным даже по международным стандартам.
— А опасность миновала? — спросил Давид. У него напряглись все нервы при виде того, как замялся Стенрус.
— Об этом еще рано судить, — помедлив, ответил он. — Все зависит оттого, как подействует пенициллин на инфекцию и, тем самым, на температуру.
— Но теперь, Туре, тебе нужно поскорее в постель, — заявила Дага Стенрус. — Вспомни, что тебе предстоит завтра…
Она была почти бесчеловечна в своем стремлении защитить человека, составляющего единственный интерес в ее жизни. Но Давид внезапно понял ее. Слабо улыбнулся и поблагодарил их за помощь.
— Мне почти нечего было делать, — ответил Стенрус с необычной для него скромностью.
Ночь текла.
Секунды созревали, как капли, отрывались и падали в сумрачный поток времени. Но вместо каждой упавшей тут же начинала формироваться другая, потом третья, и так до бесконечности.
Монахиня сидела по одну сторону постели и, перебирая четки, читала молитвы.
По другую сидел Давид. Он взял один из тех стульев с высокой прямой спинкой, что так красиво выделялись на фоне белых стен; зато сидеть на них было настоящей пыткой.