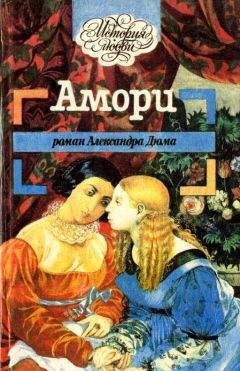И на самом деле через десять минут Мадлен сидела около окна, она была восхищена.
С помощью отца и миссис Браун она прошла от кровати до кресла; действительно, без этой двойной поддержки она не смогла бы сделать ни шага. Но какое отличие от предыдущего дня! Накануне, чтобы проделать то же самое, ее нужно было нести.
Я сел рядом с ней.
Через несколько минут она сделала нетерпеливое движение. Господин д'Авриньи, сумевший прочесть, как по волшебству, в ее сердце, понял ее.
— Мой дорогой Амори, — сказал он мне, вставая, — вы не покинете Мадлен, не правда ли?.. Я могу отлучиться на час или на два?
— Идите, отец, — ответил я ему, — я останусь здесь.
— Хорошо, — сказал он и вышел, поцеловав Мадлен.
— Быстрей, быстрей, — сказала Мадлен, когда дверь ее спальни закрылась за господином д'Авриньи, — быстрей играйте этот вальс Вебера. Представьте себе, что со вчерашнего дня я держу в голове его такт, и я его слышала всю ночь.
— Но вы не сможете идти в гостиную, дорогая Мадлен, — сказал я ей.
— Я знаю, так как с трудом могу держаться на ногах, но оставьте обе двери открытыми, и я вас услышу отсюда.
Я встал, вспоминая то, что мне рекомендовал господин д'Авриньи. Я не сомневался, что он был там и наблюдал за дочерью. Я подошел к пианино.
От пианино я мог видеть Мадлен в открытые двери; в рамке из портьер она казалась похожей на одну из картин Греза[63]. Она сделала мне знак рукой.
Я начал.
Как я говорил, это был один из изумительных мотивов меланхолического характера, какой мог сочинить только Вебер.
Я не знал вальс наизусть, и должен был следить по нотам, по мере того как играл.
Однако как в тумане, мне показалось, что я вижу, как Мадлен встает с кресла; я обернулся внезапно: действительно, она стояла.
Я хотел прекратить игру, но господин д'Авриньи увидел мое движение.
— Продолжайте, — сказал он мне.
Я продолжал, так что Мадлен не могла заметить остановку.
Казалось, что это поэтическое создание оживилось от гармонической игры и набиралось сил по мере того, как темп возрастал.
Она немного постояла, и я увидел, что хрупкая больная начала двигаться сама, и это после того, как с большим трудом отец и гувернантка проводили ее от кровати к креслу; вот она медленно пошла вперед, уверенно, бесшумно, как тень, но не ища опоры у мебели или у стены.
Я повернулся в сторону господина д'Авриньи и увидел, что он был бледен как смерть. Вторично я готов был остановиться.
— Продолжайте, продолжайте, — сказал он мне, — вспомните скрипку Кремона[64].
Я продолжал играть.
Движения ее становились все более решительными и торопливыми, и по мере того, как темп набирал силу, Мадлен тоже, более сильная, приближалась ко мне стремительно: наконец, она облокотилась о мое плечо. В это время ее отец, пройдя вокруг гостиной, появился позади нее.
— Продолжайте, продолжайте, Амори, — сказал он. — Браво, Мадлен, но почему ты говорила сегодня утром, что у тебя нет больше сил?
Бедный отец смеялся и дрожал одновременно, в то время как пот волнения и страха струился по его лицу.
— Ах, отец, — сказала Мадлен, — это магия. Но вот эффект музыки: я думала, что если бы я умерла, некоторые арии смогли бы поднять меня из могилы.
Вот почему я так хорошо понимаю монашек Роберта Дьявола[65] и виллис Жизели[66].
— Да, — сказал господин д'Авриньи, — но не надо злоупотреблять этим могуществом. Возьми мою руку, дитя, а вы, Амори, продолжайте, — эта музыка восхитительна. Только, — добавил он тихо, — переходите от этого вальса к какой-нибудь мелодии, которая бы умолкала, как эхо.
Я подчинился, так как понял: нужно было, чтобы моя музыка возбуждала Мадлен, поддерживала ее до кресла. Когда Мадлен уже сидела, музыка должна была уйти незаметно, так как внезапно прекратившись, она, очевидно, могла что-то сломать в Мадлен.
На самом деле Мадлен дошла до кресла без видимой усталости и села с сияющим лицом.
Когда я увидел, что она хорошо устроилась в своем большом кресле в стиле Людовика XV, я замедлил темп там, где раньше убыстрял; тогда она облокотилась на спинку кресла и закрыла глаза. Отец следил за каждым ее движением и сделал знак, чтобы я играл тихо, очень тихо, поскольку от вальса я перешел к нескольким аккордам, которые становились все тише, и, наконец, последний аккорд умолк, как далекая песня улетевшей птицы.
Тогда я встал и хотел подойти к Мадлен, но отец остановил меня.
— Она спит, — сказал он, — не будите ее.
Затем, увлекая меня в прихожую, сказал:
— Вы видите, Амори, необходимо, чтобы вы уехали. Если бы подобное событие произошло в мое отсутствие, если бы я не был там, чтобы всем руководить, Амори, клянусь вам, я не решаюсь даже подумать о том, что могло произойти; я вам повторяю: нужно, чтобы вы уехали.
— О, Боже, Боже! — воскликнул я. — Но Мадлен, которая не думает, что мой отъезд так близок, как ей сказать…
— Будьте спокойны, — добавил господин д'Авриньи, — она попросит об этом сама.
И, подталкивая меня, он вернулся к дочери.
Я поднялся в свою комнату и пишу вам, Антуанетта; скажите, какое средство он использовал, чтобы приказ — мне покинуть ее — исходил от самой Мадлен?»
Амори — Антуанетте
«Через шесть дней я уезжаю, дорогая Антуанетта и, как предсказал господин д'Авриньи, Мадлен сама попросила меня уехать.
Вчера вечером я и господин д'Авриньи были с Мадлен; на нее моя игра на пианино, к счастью, не оказала никакого отрицательного влияния: наоборот, ей становится все лучше. Господин д'Авриньи долго разговаривал с Мадлен о вас, и она говорила такие вещи, которые я не хочу повторять из боязни ранить вашу скромность, а затем он объявил о вашем возвращении из деревни в следующий понедельник.
Мадлен задрожала, внезапно ее лицо вспыхнуло, затем побледнело.
Я сделал движение, чтобы указать господину д'Авриньи на то, что происходит с его дочерью, но я заметил, что он держал руку Мадлен, и подумал, что ее состояние не могло ускользнуть от отца.
Заговорили о другом.
На следующий день Мадлен должна была выйти в сад и идти в беседку из сирени и роз, чтобы дышать этим воздухом и этим запахом, таким желанным для нее два дня тому назад.
Но, видите, дорогая Антуанетта, как господин д'Авриньи был прав, сравнивая больных с большими детьми: это обещание ее отца не произвело на нее никакого впечатления. Я не знаю, но какое-то облако промелькнуло в ее глазах; ее мысль, казалось, была занята другим.