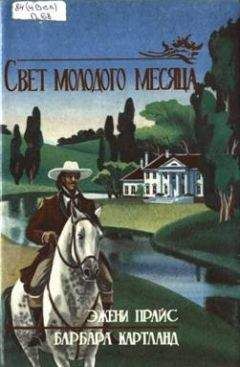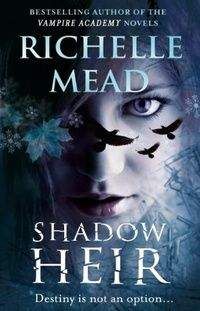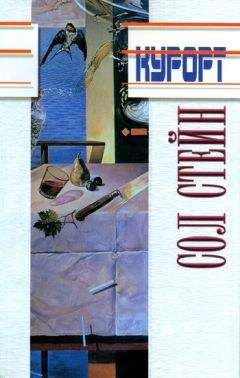Она пересекла дорожку, ведущую к жилью слуг, потом повернула через рощу низкорослых дубов и направилась к роднику, выбрав такое направление, чтобы, как она надеялась, ее не было видно из дома. Грубый шерстистый мох, свисающий с молодых деревьев, задевал ее шею сзади, и у нее мурашки пошли по телу, но ее подгоняло неистовое стремление добиться желаемого. Выйдя наконец из дремучих зарослей, она быстро пошла по дорожке под дубом, стоявшим между маленькой мазанкой с толстыми стенами и родником. Она никогда не задавалась вопросом, что хранилось в этой массивной мазанке с одним высоким окном, мимо которой ей оставалось пройти. Но ее охватил ужас, когда она услышала стук и грубый сиплый смех, перекрывавший шум ветра. Оцепенев, она стояла на месте, глядя в невыразительное, испещренное шрамами черное лицо, выглядывавшее из высокого окна.
— Куда торопишься, белая девка? — крикнул Берт и опять засмеялся. Последнее, что она запомнила, был ее крик, потом в ее сознание проник голос Джима. Она лежала на земле около мазанки, и ее муж, склонясь над нею, говорил, что она, по-видимому, решила убить его ребенка.
* * *
— Сын, этот негр продан, его здесь больше нет, — Джеймс Гульд пытался уговорить Джима. — Это происшествие было тяжело пережить Алисе, но ты же видел, что работорговец увез его. Больше неприятностей Не будет.
Джим шагал по комнате от окон до кресла отца.
— Если бы это не означало для тебя потерю шести или семи сот долларов, я бы просто пристрелил эту черную свинью.
— И это было бы преднамеренным убийством. Послушай, сын. Алиса, по-видимому, чувствует себя хорошо. Она сильно перепугалась, но сейчас, кажется, чувствует себя хорошо, если не считать…
Джим резко отвернулся от окна.
— Если не считать ее постоянных жалоб. Продолжай, скажи это, папа. Я уж и не стараюсь защищать ее больше.
— Я это заметил и мне стыдно за тебя.
— Ха!
— Я что-нибудь смешное сказал?! — Старик внимательно посмотрел в лицо сына — челюсти были крепко сжаты, глаза похожи на кремни, каждый мускул был напряжен в этой высокой гибкой фигуре. — Я сказал что-нибудь смешное, Джим? — повторил он.
— Нет, просто мне так показалось.
— Что тебя беспокоит больше обычного?
— Как вести себя, папа, чтобы мною были довольны? Если ты доволен, то недовольная моя жена. Если я доставлю удовольствие жене, увезу ее на Север, чтобы она родила там, будешь недоволен ты. Я хочу попросить тебя об одной вещи, только один раз. Если ты откажешь, я обещаю больше об этом никогда не просить. Вызови Хорейса, чтобы он вернулся и помогал тебе. Ему девятнадцать лет и, счастливец, он не связан ни местом, где жить, ни особой привязанностью к кому-либо, — по крайней мере, насколько нам известно. Как ты думаешь на этот счет? Ты позволишь мне и Алисе уехать обратно в Коннектикут, и вызовешь моего брата вместо меня?
Как обычно, когда надо было решать трудный вопрос, Джеймс Гульд долго молчал. Наконец он спросил:
— А как же с твоим новым домом в Блэк-Бэнкс?
— Пусть братец владеет им. Ты можешь передать ему землю. А я продам ему дом — задешево.
Джеймс закрыл лицо руками.
— Думаю, что мы смогли бы разыскать Хорейса. Но тебя я вынудил насильно подчиниться. А его вынуждать силой не буду. Ты ведь знал, не правда ли, прежде чем спрашивать, что я не смогу согласиться на твою просьбу?
— Да, я знал. Может быть, потому и спросил. Так у меня совесть чиста. Видишь ли, папа, несмотря на то, что она меня адски изводит здесь, я не хочу возвращаться в Коннектикут. Сент-Саймонс — моя родина. И будет всегда, — пока она не доведет меня до невозможности жить здесь. Таким образом, я могу сказать, что ты виноват. А я старался.
Джеймс Гульд посмотрел на старшего сына. Джим всегда был своеволен, но никогда не проявлял жестокости. Однако то, что Джим только что сказал, было хуже, чем жестокость, — это было трусостью.
— Ну, что же, свали вину на меня, если ты считаешь, что иначе нельзя. Ты находишься здесь по моей вине, и я сделал бы все, что могу, чтобы освободить тебя. Все, что возможно, кроме того, чтобы принуждать Хорейса.
— Папа, хочешь, я напишу ему?
— Для чего?
Джеймс глубоко вздохнул.
— Нет, я не думаю, что это поможет. Мэри каждую неделю пишет ему. Он не отвечает, но она продолжает писать. Он знает, что нам хочется, чтобы он вернулся домой. Я думаю, он еще не определился.
— Но это не похоже на Хорейса.
— Он тяжело переживает то, что случилось в Йеле.
— После того, как столько времени прошло? Это совсем неубедительно.
Старик постарался подняться, но упал обратно в кресло.
— Помоги мне, Джим.
— Конечно, папа.
Он оперся на своего сильного сына для устойчивости.
— Джим!
— Сэр?
— Постарайся остаться с нами. У меня нет никого, кроме тебя.
— Моей сестрице Мэри не понравились бы эти слова, — ухмыльнулся Джим. — Мэри — частица меня. Я никогда не думаю о возможности потерять Мэри. — У него выступили слезы на глазах.
— Джейн собирается преподавать в Балтиморе, я иногда думаю о том, что могу потерять тебя, и я потерял Хорейса. Но Мэри останется.
Двадцатого октября был прекрасный день, мягкий, тихий. Слепни исчезли. Солнечный свет приобрел тот теплый золотистый блеск, которого Мэри всегда ждала в конце жаркого лета. Она стояла во дворе в северном углу обсаженного розами частокола, объединявшего в единое целое дом Гульдов и их аккуратно разделанный сад. Дом стоял на обычном холме, на некотором расстоянии от зарослей карликовых пальм, групп высоких деревьев и хлопковых полей. Неброский, крепкий, он символизировал североамериканское трудолюбие ее отца и постоянную заботу об ухоженности жилья. Он также символизировал Мэри, она была его хозяйкой. Благодаря красоте выращиваемых ею роз люди, приезжавшие из всего округа Глинн, стали называть ее дом Розовой Горкой. Мэри это нравилось и она быстро привыкла к этому названию. Это была дань долгим часам, проведенным в тяжелой работе под жарким солнцем, когда она воевала со слепнями и жуками, и другими насекомыми. Ее сад стал творческим центром ее жизни. «Розовая Горка», — тихонько сказала она себе, поставив большую корзину с прелой соломой около первой многоцветковой розы, близ угла забора. Она постояла немного, с любовью думая о Розовой Горке и не позволяя себе думать о суматохе, царившей в доме сегодня, — день, когда Алиса должна была родить. Суматоха скоро кончится, — успокаивала она себя. Через два месяца Алиса и Джим переедут в свой дом. А Розовая Горка останется, и она будет ее хозяйкой, пока жива. И этого будет достаточно. Она позаботится о том, чтобы этого было достаточно.