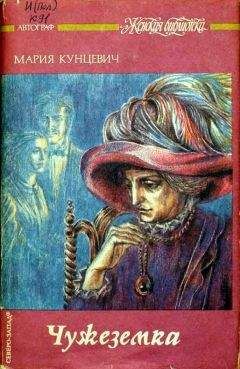Она стояла передо мной разъяренная, готовая к бою, но я упорно молчала.
— Нет, вы все-таки скажите, что же мне оставалось делать? Умереть от горя? — И, не дожидаясь ответа на вопрос, продолжала: — С горя можно умереть только тогда, когда знаешь, что такое случилось только с тобой. Когда знаешь, что судьба, благосклонная к другим, выбрала тебя единственной своей жертвой. Верно я говорю? — напирала она на меня.
— Пожалуй что, — промямлила я.
— Вот видите! — воскликнула она с торжеством в голосе — Ведь то, что случилось со мной, — правило, а не исключение. То же самое случилось и с моей матерью. А может, и с моей бабкой, с моей теткой… Мужчины родятся предателями, единственное утешение женщины — дети.
— Да, вы правы, — наконец-то решилась и я вступить в разговор. — Михал говорил мне, что мужчина нужен вам всего лишь на одну ночь для будущего потомства. Джек с этим примирился?
Она помрачнела.
— С Джеком у нас ничего не вышло. Я думаю, что и выкидыш случился оттого, что Джек ужасно ревновал меня к норвежцу, к отцу Ингрид. Ни про Антонио, ни про Беппо он почему-то ни разу не вспомнил. Только про Олафа. Наверное, настоящий англичанин не способен ревновать к шарманщикам.
— А вам не жаль Олафа? Или Джека?
— Нет, — отвечала она сердито, взяла в руки кружева и стала перебирать их. — Мужчин мне вообще не жаль. Ребенка жалко, — добавила она, разглядывая кружево. — Кажется, это был мальчик.
Она стянула с меня шаль и принялась нахваливать шляпы. Одну из них, самую маленькую, вращала на пальце.
— Ну вот, возьмите хотя бы эту. За десять шиллингов. Неделю назад я купила ее в Труро за пять гиней. Теперь, наверное, вы понимаете, что экономить я не умею, а дядя жалеет денег на билет детям.
Шляпу я купила, хотя она была из Труро.
Кэт проводила меня немного. Мы остановились возле навозной кучи.
— Вас, наверное, удивляет, что я живу в таких примитивных условиях. Но это не случайно. Мне хочется, чтобы дети жили в тех же условиях, в каких выросли их здоровые и красивые отцы. Вы понимаете меня? В Штатах я тоже вовсе не собираюсь поселиться в нашем семейном «палаццо» на Лонг-Айленде. Хочу забиться в глушь. Пожить среди рыбаков. А может среди фермеров.
Она все еще вертела в руках бесценное брюссельское кружево.
— Ну, а Михал? — спросила она вкрадчиво — Надеюсь, он по крайней мере догадается сделать Кэтлин ребенка?
В ее раскосых глазах мелькнула злость.
— Ингрид, Катарина, домой! — закричала она, отвернувшись от меня.
Я тоже отправилась домой. Ветер изменил направление. Стало тепло. Легко. Радостно. Дома Партизан едва не свалил меня с ног, а потом долго обнюхивал мои выпачканные в навозе туфли. Я переобулась. Заварила чай. «Псу Тристана» дала оставшуюся от обеда кость. И, освободившись от всего, села в кресло у камина и задумалась над тем, как встретят Михала и Кэтлин непроходимые дебри лондонских тупиков.
Немало воды утекло с тех пор, как Ванда вторично прислала ко мне Михала, на этот раз не одного, а с женщиной. С той самой ирландкой-медичкой, с которой я познакомил его, когда он впервые приехал в Лондон. Ванда своей пассивностью способна горы свернуть. Шесть лет назад она, не шевельнув для этого и пальцем, превратила меня в свою собственность. И по сей день неизвестно, почему распоряжается мною как ей заблагорассудится.
Может быть, потому, что она не столько женщина, сколько некий абстрактный «образ»? Это означает, что все связанные с ней события словно бы отдалены и можно при желании не принимать их близко к сердцу. Моя мать всегда бурно реагировала на все. Подписывала обращения к правительству, к городским властям, требовала жертв от отца, от меня, от сестры. Даже прислуге вменялось в обязанность жертвовать собой во имя «общего блага». Обычно из этого ничего не получалось, и тогда у нее разыгрывалась мигрень. Признаться, я не очень любил, когда она прижимала меня к своей мощной груди, а гнев ее вызывал у меня смех.
И только за одно я буду ей всегда благодарен — за то, что она с малых лет брала меня с собой в оперу. Теперь-то я понимаю, что бедняжка мечтала о «красивой жизни», которой — увы — никогда у нее не было. А она, наверное, мечтала умереть от чахотки, как Мими, сделать себе харакири, как мадам Баттерфляй, плясать хабанеру, как Кармен, хотела, чтоб у нее, как у Эльзы, был бы любовник, который в качестве средства передвижения использовал бы лебедя, а не велосипед, и так далее. Мне кажется, что чрезмерная ее активность объяснялась неудовлетворенностью — жизнь не предоставила ей возможности сыграть хотя бы одну из этих ролей. И, наверное, именно поэтому во время спектакля, спрятавшись за своим веером из страусовых перьев, она всегда так горько плакала. Мне было ужасно неловко, я украдкой бросал испуганные взгляды на соседей по ложе и норовил незаметно ее ущипнуть. Но именно благодаря ей я тоже создал свой идеальный образ женщины, на жизнь которой можно с интересом глядеть издалека, ничего не принимая всерьез и не чувствуя никаких обязательств, ведь занавес скоро опустится, певица сотрет грим и поедет ужинать с мужем или любовником, а я мирно вернусь домой напевая по пути только что услышанную мелодию. Я никогда не проливал слез из-за болезни Мими или харакири мадам Баттерфляй, хотя ужасно люблю смотреть на такого рода трагедии из зрительного зала. Я вообще предпочитаю, чтобы меня отделяла от людей определенная дистанция и занавес.
Из Варшавы я уехал в 1936 году. Я дружил с Бёрнхэмом, но с Вандой не был знаком. Фредди говорил, что в ней есть что-то неуловимое, как в каждой «истинной славянке». У меня складывалось впечатление, что Бёрнхэм ни за что ее не упустит.
Я был знаком с ее мужем — Гашинским. Это был типичный для Польши политик последовавших за Версальским договором времен, когда от депутата сейма требовалось, чтобы глаза его метали молнии и чтобы на заседании бюджетной комиссии он цитировал Словацкого. Внешне приятный, небрежно одетый, худой, высокий, он частенько устраивал журналистам в Европейском отеле роскошные обеды за свой счет. Я называю его «приятным» условно, как о некрасивой женщине говорят, что у нее «милая улыбка». Лично я терпеть не могу романтичных сарматов. И как только представился случай в качестве корреспондента поехать за границу, я удрал от этих типов в Англию. То, что эти романтики могут иногда «провернуть выгодное дело», отнюдь меня с ними не примиряет. Гашинский несомненно мог. А что толку от всех этих дел, которые он затевал ради себя и ради Польши? Как человек со слабым мочевым пузырем не в силах удержать мочу, так романтики не могут сберечь ни народной, ни частной собственности.