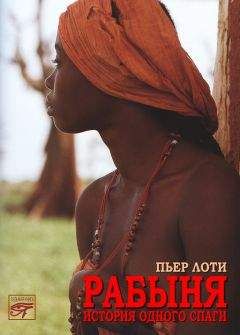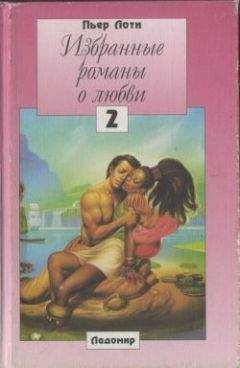Как только появлялся корабль, у ворот крепостных стен тут же возникали мрачные фигуры увешанных амулетами старых вождей и дряхлых священнослужителей с большими черными руками, резко выделявшимися на длинных белых одеждах. Они провожали взглядом плывущий «Фалеме», не сомневаясь, что при малейшем враждебном движении с их стороны его ружья и пушки откроют огонь.
Непонятно, чем жили люди в таком засушливом краю, что делали, как существовали за унылыми серыми стенами, не зная ничего, кроме одиночества и беспощадного солнца.
На северном берегу еще больше песка и скорбного запустения — это Сахара.
Далеко, очень далеко видны зажженные маврами большие костры из травы; прямые столбы дыма устремляются в неподвижном воздухе вверх, достигая поразительной высоты. На горизонте — гряда красных, как раскаленный уголь, холмов, из-за столбов дыма похожих на бесконечные пожарища.
А там, где нет ничего, кроме сухости и дышащих жаром песков, частые миражи вызывают к жизни огромные озера, в которых огонь отражается наоборот — пламенем вниз.
Мелкая, дрожащая дымка, поднимавшаяся над песком, укрывала своею пеленой обманчивые пейзажи, возникавшие в пылающем солнечном пекле; искрясь и переливаясь, они постоянно преображались, принимая небывалые, слепящие до боли в глазах очертания.
Время от времени на том берегу появлялись группы мужчин чисто белой расы — правда, одичавшие и загорелые, но, как правило, красивые, с длинными, вьющимися волосами, делавшими их похожими на библейских пророков. Они шествовали под солнцем с непокрытой головой, в длиннополых темно-синих одеждах: мавры из племени бракна или трарза — все, как один, бандиты, головорезы, грабители караванов — худшая из всех африканских народностей.
Подул восточный ветер, в нем ощущалось мощное дыхание Сахары, и по мере удаления от океана ветер все усиливался.
Над пустыней веял испепеляющий, горячий, точно жар в кузнице, ветер. Он сеял мелкую песчаную пыль и нес с собой жгучую жажду из Билад-уль-Аташа.
На тенты, под которыми укрывались спаги, постоянно лили воду; струей из шланга какой-то негр торопливо выписывал арабески, почти тут же исчезавшие, испарявшиеся в обезвоженной атмосфере.
Между тем они приближались к Подору, одному из самых крупных городов на реке, и берег Сахары постепенно оживлялся.
Дальше начинались владения дуайшей, пастухов, разбогатевших на грабежах скота.
Длинными караванами мавры вплавь преодолевали реку Сенегал. Перед собой, по течению и тоже вплавь, они гнали украденных животных.
На необозримой равнине стали появляться лагерные стоянки. Палатки из верблюжьих шкур, прикрепленных к двум деревянным колам, походили на огромные крылья летучих мышей, раскинутые над песком; своей густой чернотой они производили диковинное впечатление посреди неизменно желтого пространства.
Всюду наблюдалось некоторое оживление: чуть больше движения и жизни.
На берегу прибавилось людей, выходивших посмотреть на корабль. Мавританские женщины — едва прикрытые, медного цвета красавицы с коралловым украшением на лбу, ехали рысью на низкорослых горбатых зебу, далее верхом на норовистых телятах нередко скакали голые ребятишки с торчавшим в виде гривы вихром на бритой голове и мускулистыми, как у молодых сатиров, телами.
Подор — важный французский пост на южном берегу реки Сенегал и одна из самых жарких точек на земле.
Внушительная крепость, потрескавшаяся на солнце.
Почти тенистая улица вдоль реки с несколькими уже обветшалыми домами мрачного вида. Французские лекари, пожелтевшие от лихорадки и анемии; мавританские или чернокожие торговцы, сидящие на корточках на песке; всевозможные костюмы и амулеты Африки; мешки с арахисом, тюки со страусовыми перьями, слоновая кость и золотая пыль.
За этой полуевропейской улицей — большой негритянский город из соломы, изрезанный, как пчелиные соты, широкими, прямыми улицами; каждый квартал огорожен толстыми деревянными тата и укреплен, словно бастион.
Жан прошелся там вечером вместе со своим другом Ньяором. Доносившиеся из-за стен печальные напевы и непривычные голоса, необычный вид всего окружающего и горячий ветер, не утихавший даже ночью, внушали какой-то смутный ужас, необъяснимую тревогу, порожденную тоской, одиночеством и безысходностью.
Никогда, даже на отдаленных постах Дьяхаллеме, Жан не чувствовал себя таким отверженным и потерянным.
Вокруг всего Подора — поля проса, несколько невзрачных деревьев, кое-какие кусты и немного травы.
Напротив, на мавританском берегу, — только пустыня. А между тем у самого начала едва наметившейся тропы, терявшейся вскоре на севере в песках, виднелась указательная табличка с такой манящей надписью: Дорога на Алжир.
Было пять часов утра; тусклое, красное солнце вставало над страной дуайшей. Жан вернулся на «Фалеме», где готовились к отплытию.
Пассажирки-негритянки, завернувшись в пестрые набедренные повязки, уже улеглись на палубе; они так плотно прижались друг к другу, что можно было различить лишь груду позолоченных утренним светом тканей, над которой вскидывались порой увешанные тяжелыми браслетами черные руки.
Пробиравшийся между ними Жан вдруг почувствовал, как чьи-то гибкие руки, словно две змеи, обвили его ногу.
Пряча лицо, женщина целовала ему ноги.
— Тжан! Тжан! — послышался хорошо знакомый тоненький голосок. — Тжан!.. Я поехала за тобой, потому что боялась, что ты можешь попасть в рай (то есть можешь умереть) на войне! Тжан, не хочешь взглянуть на своего сына?
И черные руки, приподняв смуглого ребенка, протянули его спаги.
— Мой сын?.. Мой сын?.. — повторял Жан с привычной солдатской резкостью, хотя голос его дрожал. — Мой сын?.. Что ты такое болтаешь… Фату-гэй?..
— А ведь верно, — с волнением произнес он, наклонившись, чтобы получше разглядеть малыша, — верно… Он почти белый!..
Мальчик, смуглый и все-таки белый, как спаги, отверг материнскую кровь, целиком унаследовав кровь Жана; у него были большие, бездонные глаза и та же красота. Малыш тянул ручонки и уже глядел серьезно, хмуря маленькие брови, словно стараясь понять, зачем он явился в этот мир и почему его севеннская кровь оказалась смешанной с нечистой черной.
Жан чувствовал себя побежденным неведомой внутренней силой, волнующей и таинственной; незнакомые доселе чувства пронзили его до глубины души; он наклонился и ласково, с молчаливой нежностью поцеловал сына.
Да и голос Фату-гэй пробудил в сердце множество уснувших воспоминаний; огонь страсти, привычка обладания связали их прочными, неразрывными узами, неподвластными и разлуке.