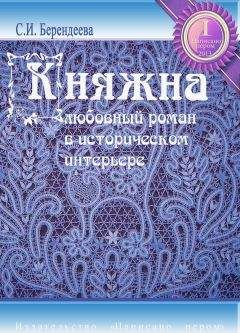– Не беспокойтесь, государь, я в чужие дела не мешаюсь.
– Это я знаю. Но предупредить не лишне. Ну, с Богом!
Мария уже нагнулась в открытую дверцу кареты, когда к крыльцу подскакал всадник на запалённом коне. Крикнул:
– Депеша от главнокомандующего.
Соскочил с седла, протянул пакет, оглянулся на Марию. Чёрные глаза под заиндевевшими бровями, обмётанные холодом родные губы. Господи, Саша!
Пётр сразу сломал печати, начал просматривать донесение. Спросил, не поднимая глаз:
– Кто таков?
– Поручик гвардии Преображенского полка Александр Бекович-Черкасский!
Голос у Саши хриплый, промороженный.
– А, это ты, не признал сразу. Молодцом, господин поручик. Ступай с Макаровым, ешь, грейся, водки выпей. Алексей, распорядись, чтоб быстро всё господину поручику подали.
Оторвал глаза от бумаги, хлопнул Александра по плечу.
– Через час обратно можешь ехать?
– Так точно, ваше величество, господин бомбардир.
– Ну молодцом, иди в дом.
Пётр повернулся к Марии.
– С богом, княжна.
И не дав ей вымолвить слова, почти поднял её в карету, захлопнул дверцу, свистнул заждавшемуся кучеру. Карета мигом выкатилась со двора. Резвые лошади бежали ходко, и вот уже за окошками кончились дома и понеслись вскачь обвешанные сосульками ёлки да берёзы.
Мария всё никак не могла придти в себя от удивления. Хотя ничего особенно удивительного не было. Прислали его с донесением к царю, он же в армии. Может, он даже сам выпросился с этим поручением в Москву, чтоб её увидать. Наташа в письме поминала, что она с Сашей об том случае, когда он Марию с царевичем застал, говорила и всё ему объяснила. Писала, что он даже с батюшкой об ней, об Марии разговор имел. И хоть батюшка согласия не дал, сказал, что после турецкого похода решение примет, но значит, Саша на неё больше не сердится.
А она-то, вот фефёла рассупоненная! Хоть бы слово ему молвила! Стояла столбом, в рот воды набравши. Свиделись, называется! Так сетовала и ругала себя княжна Голицына, когда сзади на дороге послышался крик. Карета встала, и солдат преображенец, из ехавших сзади, сказал выглянувшей Марии.
– Царский гонец догоняет. Подождём, может надоть чего.
Мария посмотрела назад. Лошадь была другая, всадник тот же. Ах, молодец, догнал! Александр, подскакав к самой карете, бросил поводья солдату, взял её руки в варежках.
– Мне Варвара Андревна дорогу подсказала. Здравствуй, Маша.
Она силилась сдержать улыбку, но губы не слушались.
– Здравствуй. А государь за задержку не огневает?
Он тоже улыбался.
– Потом в пути наверстаю. Я ведь сутками могу с коня не слезать, сама знаешь.
– Знаю. Ну так проводи меня до Троицы.
Мария потянула его в карету. Обернулась к солдату, и даже не успела открыть рта. Служивый уже привязывал к карете поводья. Подморгнул Марии:
– Присмотрим за лошадкой, боярышня, не сомневайтесь. Это мы понимаем, у меня самого жёнка в деревне осталась.
Мария насупилась от смущения, а Александр благодарно кивнул.
Она смотрела на него в полумраке кареты и не верила, что это он сидит рядом. У него обветренное лицо, потрескавшиеся губы, морщинки у глаз, и от этого он стал ещё красивее. Он так смотрит на неё, будто не узнаёт. Может, она лохматая? Или глаза опухли? Спала нынче мало.
– Какая ты стала, – еле слышно говорит он.
– Какая? – спрашивает она с озабоченностью.
– Как на картине, али на фреске в церкви. В Италии, там, знаешь, церкви расписывают не как у нас, а как бы живыми людьми. Так у девы Марии италийской – мадонны по-ихнему – лик такой же, как у тебя.
– Скажешь тоже, богоматерь нашёл.
– Вот поедем когда-нибудь, сама увидишь.
– Поедем?
– Вот турков разобьём, Борис Алексеич тебя за меня отдаст. А государь обещался меня по дипломатической части направить, потому как я языки знаю, вот и поедем.
Мария вздрагивает и молчит, потому что её руки оказываются в Сашиных больших и очень горячих руках, и она чувствует, как у неё от кистей вверх к плечам, потом вниз по спине бежит сладкая дрожь. И эта дрожь всё усиливается от Сашиных губ на её пальцах, и ей не хочется не только говорить, но даже шевелиться.
К Троице доехали до обидного быстро. Александр отказался от обеда и хотя бы малого отдыха, прижал последний раз к губам Мариину ладошку, вскочил в седло, махнул рукой. И вот вместо него уже только снежная пыль переливается в лунном свете. Тяжёлые монастырские ворота отворились, снежная пыль опустилась на дорогу, сердце девы стучало сразу во всём теле. Она прижала ладонь к губам, к губам, которые он так и не поцеловал. Не успел? Не посмел? Как он глядел на неё. Её ладони пахли лошадиной сбруей, сеном, сургучом – Сашей.
Катерина, тайновенчанная царица, не спала – ждала. Не спала и ждала, конечно, и Пелагея. Накинулись, затормошили, одна с расспросами, другая с едой. На расспросы Мария отвечала исправно, а есть не могла. Сидела перед богатым набором разносолов – хорошо живут монахи – и не могла съесть ни кусочка.
– Сыта я, мамушка.
– Да где же сыта, доча, после такой дороги?
– Вот с дороги-то и сыта. Мне столько всяких подорожников наклали, а в карете что делать – сиди да жуй.
– А что ж глаза у тебя как на иконе и щёки ввалились?
У Марии сдавило горло. «Глаза как на иконе». Саша на неё как икону глядел, с богоматерью сравнивал. Она и вправду ничего не ела. Свёрток с подорожниками из Преображенского Саше в сумку сунула.
– Не хочу я есть, мамушка, спать хочу.
– Ну ладно, пойдём уложу. Может, и правда, растрясло тебя, вот брюхо-то и бунтует.
Спать она тоже не могла, зато никто не мешал думать. Она и думала всю ночь, знамо о чём. Иногда вставала помолиться, снова ложилась. А мысли были грешные, сладкие, и никакой молитвой их было не отогнать.
В Преображенское вернулись к самой Масленице. Церковь этот обычай не одобряла, порицала даже, но москвичи – и бояре и простолюдины – от него не отступали. Любили снежную баталию устроить, огненное колесо покатать, на площади разными проказами себя и народ потешить. Ну и, конечное дело, блины!
Редко какой год на масляной кто-нибудь не помирал, блинами обкушавшись. Да и то сказать, умели на Москве блинной затейливостью удивить. Мало того, что кроме пшеничных, ржаных, гречневых, овсяных, пшённых пекли ещё морковные, репные, тыквенные, сырные, так ведь вдобавок и припёки разные, один другого смачнее: и с потрохами, и с луком, и с рыбой солёной, али копчёной, и с ягодой всякой.
Только об этих блинах и припёках Катерина с Пелагеей всю дорогу и говорили. Катерина, видно, сама стряпать любила, а уж Пелагее только дай волю – такого наготовит, что язык проглотишь. И так вкусно у них разговор этот получался, что приехали все трое голоднющие, будто неделю не ели. И кстати – в Преображенское прямо к столу поспели. Стол, в отличку от всегдашнего, изобильный был. Конечно, не всё было, о чём по дороге мечтали, но и блины, и к блинам на столе немало стояло.