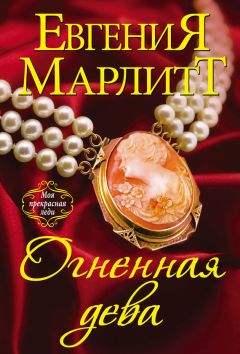– С вашего позволения, замечу вам, баронесса, – крикнул он резким тоном молодой женщине, которая мимоходом сорвала скрывавшуюся в траве полевую гвоздичку, – сегодня нельзя собирать ни орхидей, ни прочей негодной травы для России.
Майнау вспыхнул и обернулся; может быть, резкий ответ гофмаршалу готов был сорваться у него с языка, но при взгляде на молодую женщину, которая с таким высокомерным молчанием и так спокойно приколола маленький пунцовый цветок к поясу, он с нетерпением пожал плечами и пошел вперед, продолжая начатый с герцогиней разговор.
Часть парка, где росли великолепные шенвертские фрукты, расположена была возле индийского сада, под защитою гор, счастливая группировка которых давала возможность редкостям индийской флоры расти в прохладном, умеренном поясе. Северо-восточный ветер не проникал сюда, и под теплыми лучами солнца здесь высоко поднимались бананы, вызревали великолепнейшие сорта персиков, самые нежные сорта винограда и прочих фруктов на шпалернике и пирамидальных стволах, стоявших группами среди обширных, покрытых дерном площадок. Эта часть парка, более нежившая вкус, чем ласкавшая взоры, вдавалась в самый лес – разумеется, не сразу в вековую чащу дивных исполинов, простиравшуюся вплоть до большой проезжей дороги, но туда, где на порядочном расстоянии вились между деревьями светлые ленты дорожки, а под первою группою кленов находилась усыпанная мелким гравием площадка. На эту площадку обращен был фронтон так называемого охотничьего домика. Это было красивое маленькое строение из кирпича, со светлыми окнами и оленьими рогами на крыше, и могло отчасти считаться станцией между Шенвертским замком и домом лесничего, находившимся в получасовом расстоянии и одиноко стоявшим в лесу. В этом домике жил ловчий с охотничьими собаками; под его контролем находился шкаф с богатым оружием Майнау, и в торжественных случаях фигурировал он в парадном мундире как егерь барона Майнау.
Если хотели разыграть идиллию, то для этого выбиралась площадка перед охотничьим домиком – это был один из самых привлекательных пунктов Шенверта: тут дышалось чистым лесным воздухом, виднелся с одной стороны пестревший яркими красками индийский храм среди чужеземной растительности, а с другой – еще издали красовались зубцы мозаичных крыш замка в средневековом стиле, живописно возвышавшиеся над роскошной зеленью парка.
При таких празднествах, носивших характер сельской простоты, вместо замкового повара у белой кафельной плиты охотничьего домика стояла Лен и варила кофе. Так велось издавна; ее широкоплечая фигура в вечно черном шелковом парадном платье была такою же принадлежностью охотничьего домика, как и великолепные охотничьи собаки, лениво растянувшиеся на мягком теплом песке. Правда, что ее серьезное лицо в чепце с традиционными шотландскими лентами никогда не улыбалось и «кникс» ее был из рук вон неловок, но кофе был так вкусен и ароматен и все приготовленное ее руками блестело такой удивительной чистотой, что на сухость и на суровость ее лица никто не обращал внимания.
Было ли сегодня в кухне жарче обыкновенного, или хлопоты утомили ее, но только Лен казалась разгоряченною, и если бы не ее суровая натура, то по ее лихорадочно блестевшим глазам и нахмуренному лбу можно было бы подумать, что она плакала.
– Вы больны, милая Лен? – благосклонно спросила ее герцогиня.
– Нет, ваше высочество! Благодарю покорно за ваше милостивое внимание – весела и здорова, как рыба в воде! – возразила она испуганно, бросив косой взгляд на гофмаршала.
Она принесла несколько белых искусно сплетенных корзиночек, которыми тотчас же завладели маленькие принцы. Вокруг кофейного стола вдруг стало пусто – дети помчались к фруктовому саду, а садовник замка, стоя на почтительном расстоянии, молча, но с отчаянием смотрел, как маленькие вандалы без разбора и сожаления опустошали так тщательно лелеянные им деревья, наполняя свои корзинки самыми дорогими фруктами.
Гофмаршал тоже приказал подкатить туда свое кресло, но чтобы изгладить впечатление своей беспомощности, ему необходимо было встать и пройтись, хотя бы это стоило ему тысячи пыток. И он поднялся и заковылял вдоль зеленевшего виноградного шпалерника, кончавшегося у проволочной решетки индийского сада. Ему посчастливилось добраться бодро до кофейного стола, за которым уже сидела герцогиня. С блаженной улыбкой подал он ей в корзине несколько веток раннего винограда, срезанных им собственноручно; вдруг улыбка его исчезла, и он побледнел от испуга.
– Мое кольцо! – воскликнул он в волнении, торопливо бросив корзину на стол.
Он стал смотреть на тонкий указательный палец правой руки, на котором несколько минут назад блестел дорогой смарагд.
Все, исключая герцогиню, вскочили и принялись искать его. Кольцо, «всегда так крепко державшееся», как уверял гофмаршал, вероятно, свалилось с похудевшего пальца в то время, когда он срывал виноград, и исчезло в зелени, но, как тщательно ни искали, найти его не могли.
– Прислуга поищет его потом под моим личным надзором, – сказал Майнау, возвращаясь к столу.
Ради этикета пора было прекратить эту неприятную сцену.
– Да, потом, когда оно уже безвозвратно исчезнет в каком-нибудь кармане, – возразил с мрачной улыбкой гофмаршал. – Доверяй прислуге! Она постоянно вертится около виноградного шпалерника: главная дорожка пролегает мимо него… Ваше высочество, простите мое волнение, – обратился он с просьбой к герцогине. – Но кольцо это для меня дорого как редкость, завещанная мне Гизбертом – за несколько дней до смерти он передал его мне при свидетелях, причем написал следующие слова: «Не забывай никогда, что ты получил десятого сентября!» Он завещал его специально мне, и его внимание трогает меня до глубины души… Вашему высочеству известно, что я не ладил с этим братом, напротив, осуждал его безнравственный образ жизни… но, Боже мой, сердце все же сохраняет свои права. Я любил его, несмотря на все его заблуждения, а потому утрата его кольца глубоко огорчила бы меня.
– Невзирая на истинно баснословную ценность самого камня! – сухо заметил Майнау.
Он уже сидел возле герцогини, между тем как остальное общество только еще собиралось.
– Ну, конечно, но это уже на втором плане, кто же это стал бы отвергать? – ответил гофмаршал с притворным равнодушием.
И движением, в котором выразилось все его отчаяние, он разом откатил свое кресло в сторону, откуда можно было видеть всю дорогу вплоть до злополучного шпалерника.
– Смарагд очень дорог, а резьба редкой работы, в своем роде чудо… В ней заключается тайна. Около герба виднеется маленькая точка, как будто крошечная царапина, но под лупою ясно выступает отчетливо вырезанная мужская голова. Приложение этой печати имеет, по-моему, больше значения, чем самая подпись.