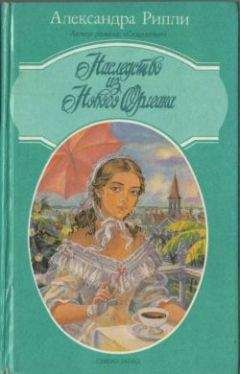Тогда папа закричал еще громче: «Чего же еще ты хочешь, если твоя дверь всегда заперта?!» А мама заплакала. Она сказала, что запирает дверь только последние три года, потому что у нее начались «изменения». Мэй-Ри, что это за «изменения»? Ты знаешь? Нет? И я тоже не знаю. Надо будет выяснить… В общем, потом папа разорался так, что стекла задребезжали: «Ты всегда плачешь! Я не могу разговаривать с тобой, когда ты плачешь!» А мама рыдала как одержимая. «Я написала тебе письмо, – сказала она, – в нем говорилось, что я наконец поняла свои ошибки. Я просила тебя разрешить мне вернуться в город, чтобы мы снова жили как муж и жена».
Папа закричал: «Что-о?!», а мама заплакала еще сильней и сказала, что всю ночь не смыкала глаз, когда писала письмо, но, не успев закончить, узнала, что любовница папы уже едет в Монфлери. И тогда она сожгла письмо, а пепел втоптала в каминный коврик. Тогда папа снова сказал: «Что? Что было в том письме?» А мама сказала, что уже сказала. Тогда он тоже принялся рыдать – в точности как мама. Много раз они говорили друг другу «милый», «любимая», целовались, но больше уже не кричали, так что я не все смогла услышать. Но главное я расслышала – папа пообещал высечь Амаринту кнутом и оставить ее навсегда. И еще я услышала, как они говорили о тебе, Мэй-Ри. Мама сказала, что, когда узнала, что у тебя желтая лихорадка, поняла, что не права, пряча меня от болезни, поскольку что на роду написано, то и будет. И поэтому, видишь, Мэй-Ри, папа и мама снова вместе – и это из-за тебя. Когда они вернутся, ты сама все увидишь. Они все время держатся за руки и друг на друга не надышатся. Надо же, такие старички! Очень трогательно.
А теперь мы поедем в Новый Орлеан на День всех святых. Меня введут в свет; мама пишет в Париж, заказывает мне там платье. Если в Батон-Руже было так замечательно, то представляешь себе, что будет в Новом Орлеане! Я самая счастливая девушка на свете, и все благодаря тебе, Мэй-Ри. Ты мой личный ангел-хранитель!
К удивлению Мэри, сентябрь оказался еще жарче августа. Вся жизнь замедлилась. Птицы пели лишь время от времени, словно пение отнимало у них слишком много сил. Животные и люди двигались лениво, и настроение у них было раздраженное. Даже у могучей реки был такой вид, будто ее течение подчинилось всеобщему оцепенению.
По контрасту грозы были чаще и сильнее, чем летом. Облака собирались в блеклом голубом небе с немыслимой быстротой. Потом они темнели, поблескивая внутренними вспышками, и изливались бурными потоками воды и шквалами молний и грома.
Облегчение от жары бывало недолгим. Грозы заканчивались так же резко, как и начинались, оставляя насыщенный влагой воздух, который тут же прогревался солнцем.
Даже Мэри пришлось отступить перед натиском климата. Ее французский начал подергиваться плесенью, и она не предпринимала попыток продолжить занятия с Жанной. Она обнаружила, что любое движение требует невероятных усилий воли – даже просто поднять руку. Ей все время хотелось плакать, и она уверилась в том, что лето никогда не кончится и каждый следующий месяц будет еще томительнее предыдущего. Жанна поднимала ее на смех, дразнила и издевалась.
– Не будь ты такой американкой, – говорила она. – Не обращай на жару внимания, и она перестанет тебя мучить.
Мэри старалась. Однажды она даже заставила себя прокатиться вместе с Жанной к береговому валу.
Но это было лишь один-единственный раз. Вид рабочих-ирландцев подействовал на нее слишком угнетающе. Там были мужчины всех возрастов; их голые спины были красны от солнечных ожогов, а лица под завязанными узелком платками, предохранявшими головы от зноя, выражали угрюмую решительность. Они на мгновение оставили работу, пропуская молодых женщин и грума. Мэри слышала тяжелое дыхание рабочих в те несколько секунд отдыха, которые подарило им появление всадниц.
– Разве можно работать под таким солнцем, – сказала она. – Я не могу этого видеть.
Однако Жанну это совсем не волновало. Она продолжала прогулки каждый день. Она напомнила Мэри, что ремонт вала – идея Вальмона Сен-Бревэна.
– Когда-нибудь я его там обязательно встречу. Любовные увлечения были единственным интересом в жизни Жанны. Она бесконечно рассказывала о сердцах, покоренных ею в Батон-Руже, о кавалерах, которыми она будет окружена в Новом Орлеане. Ее поглощенность собой действовала Мэри на нервы, и без того подпорченные жарой.
Иногда Жанна говорила и о любовных увлечениях других, и это еще больше раздражало Мэри. Жанна решительно настроилась влюбить Мэри и Филиппа друг в друга. Она без умолку щебетала о том, как он красив, каким станет богатым и как боготворит Мэри. Наоборот, Филиппу она нахваливала подругу, щедро привирая. В результате тем спокойным отношениям, которые сложились между Мэри и Филиппом, пришел конец. Оба стали чувствовать скованность и неловкость в присутствии друг друга.
В середине сентября Филипп уехал назад, в Байо-Теш. По его словам, для работ на валу он был не нужен, а вот при уборке тростника у дяди Бернара его присутствие было совершенно необходимо.
Мэри была рада его отъезду. Но потом стала по нему скучать. Она винила во всем Жанну и становилась все более раздражительной. Сдерживаться было трудно и оттого, что все вокруг нее ссорились. Grandpère и Карлос, отец Жанны, каждый раз превращали еду за семейным столом в настоящие баталии. Старик метал громы и молнии, утверждая, что банкиры – паразиты, которые высасывают из плантаторов все прибыли. Карлос возражал ему, что мир не кончается на границах Монфлери, где все никак не может кончиться восемнадцатый век. А Берта безуспешно пыталась успокоить обоих.
Вскоре Карлос тоже уехал.
– С нетерпением жду встречи с вами в Новом Орлеане, – сказал он, поцеловал Мэри руку и назвал ее благодетельницей за то, что та сберегла для него дочь. Несмотря на ежедневные ссоры, Мэри было жаль расставаться с ним. Когда рядом не было Grandpère, Карлос мог быть весьма интересным собеседником. Это был красивый мужчина, который выглядел намного моложе своих пятидесяти четырех лет. У него были густые седеющие волосы, веселые карие глаза. Он был строен, прекрасно одет и обут – в некотором роде щеголь, с пышными кружевными манжетами на рукавах и сапфировыми кольцами на холеных пальцах с наманикюренными ногтями. Разговаривая, он любил жестикулировать, а рассказчик он был великолепный и знал это. После полудня он пил кофе с дамами на галерее. Его камни и кружева описывали изящные плавные дуги, когда он занимал дам пространными монологами. Карлос рассказывал о своей юности, о похождениях, в которых он неизменно верховодил над своими братьями, о почти катастрофических последствиях этих похождений и чудесных спасениях из безвыходных ситуаций. Он вспоминал сплетни из городской жизни, разумеется, те, что поприличней: о бойкой конкуренции среди учителей фехтования, о поединках прямо посреди улицы, которые мог лицезреть каждый и соответственно заключать пари; о гонках на пароходах, приводивших в ужас пассажиров и четвероногий груз; о двух братьях, которые на дуэли решали спор, кто из них лучший портной; о блистательных успехах труппы итальянских акробатов, которые были звездами театра, расположенного в американском секторе, пока не выяснилось, что они – те самые воришки, которые проникают в дома с крыш. Жанна и Мэри смеялись, а жена смотрела на него с обожанием. Она расплакалась, когда он направился на пакетбот, и плакала, пока судно не скрылось с глаз.