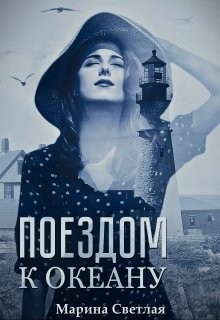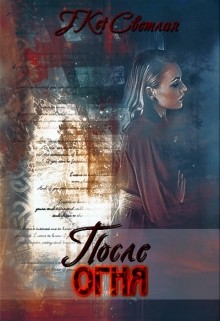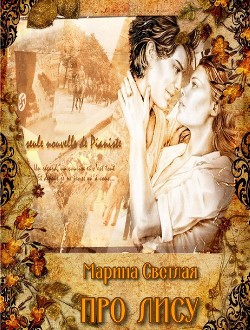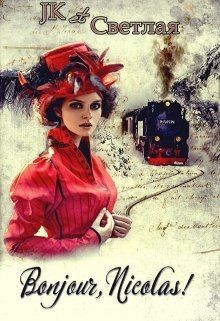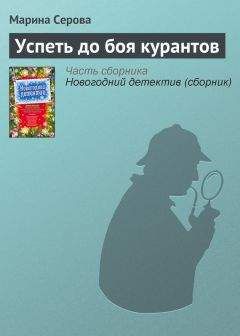— Я полагаю, все мы с ней давно познакомились… самым тесным образом.
Де Тассиньи кивнул. Он казался довольно расслабленным и спокойным. И вполне добродушно улыбался, произнося вслух ужасные вещи. Этакий весельчак и балагур с вечеринки у Риво — таким он запомнился Юберу тогда. Таким он и теперь выглядел. Штука в том, что только лишь выглядел.
— Это разные вещи, господин подполковник, — заговорил он снова. — Вы воевали, и вы не можете не помнить… того, какие мы были тогда, здесь, у себя дома. Помните, ведь? За свой кров и воюется иначе, верно? Потому нет, я не принимаю ваш аргумент. Нынешняя война не чета той, что велась на наших улицах и в наших полях. Вы же все видите. Это… никому не нужно. Люди, которые встречали союзников с ликованием и благодарностью, далеко не в восторге от того, что творится в колониях. Они не понимают, за что там гибнут наши солдаты. И не сегодня — так завтра заговорят об этом не только на своих кухнях. У нас нет поддержки среди собственных сограждан, чтобы вести эту кампанию. Мы проиграли в тот момент, когда начали.
— Каждый делает то, что велит ему честь, — пожал плечами Юбер. — Я офицер. И если моя страна говорит мне идти и убивать вьетнамцев, я пойду и буду их убивать. Тем более, вам, как и мне, прекрасно известно, кто и как там воюет.
— Кроме соображений чести, есть еще и соображения совести. Быть может, потому я не военный. Иначе как знать… заткнул бы еще за пояс де Латра, — рассмеялся де Тассиньи. — А так я не мучаюсь выбором. Ныне моя страна велит мне кормить нашу армию, а это уж получше, чем стрелять.
— Почти все что угодно лучше, чем стрелять, — в тон ему с улыбкой на лице ответил подполковник. — Но ведь и ваш сын — всего лишь выучился на корреспондента. Ему полагается оружие, поскольку он считается военнослужащим, но… его задача иная — заставить людей на их кухнях… изменить нынешнюю точку зрения.
— И это тоже заранее проигранная война, — отмахнулся де Тассиньи.
— Потому что вы считаете неправильным происходящее?
— И поэтому тоже. И вы слукавите, если не думаете того же. Иначе при вас бы я всего этого не говорил — не рискнул бы.
Юбер бы тоже в эту минуту не рискнул бы ни согласиться, ни оспорить сказанное. Для него все одно. Немцев он ненавидел за то, что они сделали. Вьетнамцев, выходит, ненавидеть не за что. Тут их черед. Но если уж его колыбель — война, если это единственное, что он может, — куда идти? Не воевать же против Франции только потому, что сейчас он с ней не согласен!
Потому что есть еще соображения верности, о которой они почему-то не упомянули.
Оставалось лишь заверить посетившего его государственного мужа в том, что капрал Жюльен Эно де Тассиньи получит назначение в Алжир, но никак не в Индокитай. На том и распрощались, пожав друг другу руки и обещавшись еще увидеться. Юберу нравился этот человек, редко когда ему вообще нравились люди. Но де Тассиньи был искренен даже в том, против чего Лионец решительно протестовал бы.
Подполковнику оставалась еще одна встреча в этот бесконечный холодный день, закат которого отливал красным, но об этом он предпочитал не думать. У него припасено несколько минут для того, чтобы не думать. И ими он намеревался воспользоваться. Хоть немного побыть в тишине. Успеть вернуть себе холодность, которую напускал на себя перед боем, нарастить броню, отделяющую его от любых чувств или слов.
Потому что, стоя у подоконника с чашкой остывшего кофе, он отчетливо видел, как к зданию подъехал темно-вишневый Ситроен. И знал наверняка, что сейчас Аньес отстукивает своими каблуками ритм шагов по каменному полу коридоров.
Минута.
В двери лейтенант Дьен.
— Мадам де Брольи приехала, господин подполковник. Я могу ее пригласить?
— Да, проводите сюда, пожалуйста.
И снова мгновение между вдохом и выдохом, когда Аньес показывается в дверном проеме и решительно проходит внутрь. На его стол, громко стукнувшись о столешницу, падает папка с ее делом. Можно не открывать. Анри и без того знает, что там. Это ровно та же самая папка, что побывала в его руках несколько дней назад. Он же безотрывно смотрит на Аньес. На той темное пальто шоколадного цвета с пелериной и хорошенькая шапочка, похожая на кепи. Высокие перчатки и яркая зеленая сумочка в тон пуговиц. Какая, к черту, ей армия! Она одевалась не иначе чем в известных парижских ателье!
И так была хороша, что он почти и забыл в мгновение ока, отчего злится на нее. Отчего на нее нужно злиться.
— Долго ждала? — спросил Юбер вместо приветствия.
— Непозволительно долго. Три дня. И к ним еще добавь те, что консьерж врал, будто тебя нет.
— Он не врал.
Консьерж действительно не врал. Юбер являлся поздно ночью, почти что поселившись в Иври-Сюр-Сен. Работы навалилось слишком много, чтобы позволить себе слабость игнорировать Аньес нарочно, кроме самых первых суток, когда он попросту не хотел ее слышать, иначе еще тогда вытряс бы из нее душу, а Лионец предпочел бы этого избежать. Ему все казалось, что она должна значить для него куда меньше, чем в той степени, когда доходит до вытрясывания души. И отдавал себе отчет, что занимается самообманом. Ее стало слишком много вокруг и в нем самом, чтобы не желать от нее того же.
А то, что объясниться им придется, было очевидно с самого начала. Аньес не оставит все так, как есть. Не с ее характером. Мужчины дают ей то, что она хочет, а этот — тут можно было ткнуть в себя пальцем — отказался.
— Какая разница, — неожиданно устало вздохнула она и села напротив. — Поговорить с тобой не вышло, адреса твоего я не знала, пришлось записываться на прием. Потому что ждать тебя у форта и выслеживать — даже для меня слишком замысловато.
— А как же этот твой… шеф Леру, который раздобыл меня тебе? Номер дал, а адрес — нет?
— Номер дал, а адрес — нет, — кивнула Аньес. — Впрочем, официально даже лучше. Я пришла сказать, что не принимаю твой отказ. Я с ним не согласна.
— Строго говоря, отказывал тебе не я, а Кинематографическая служба вооруженных сил. Это с ней ты не согласна?
— Значит, с ней. Нельзя соглашаться с абсурдными решениями! Если завтра я приволоку новоиспеченного мужа, который подтвердит свое согласие отпустить меня служить, ты подпишешь мое прошение?
— Нет, но ты поставишь меня в очень неудобное положение, потому что мне придется приложить к твоему делу отчет Комитета национальной обороны. Им не нравится тот факт, что ты коммунистка.
— Я не имею никакого отношения к партии с довоенного времени! — возмутилась Аньес. — Или ты забыл, кто был мой муж?
Он помолчал, снова разглядывая ее. Пожалуй, возмущение было искренним. Обида, почти детская, плещущаяся в глазах, — тоже. Но и желание сделать по-своему сейчас превосходит все остальные. Она пойдет на многое, чтобы его убедить. На все ли? Ах да, он ведь тоже часть игры, существование которой между ними она отрицала!
— Помню. Еще помню твое мнение относительно нашей миссии в Индокитае.
— Если бы в тот момент я знала, чем все это обернется, конечно же, я бы соврала! И это все неважно, когда речь идет о настоящей работе, а не о том, чем я здесь сейчас занимаюсь!
На мгновение взгляд его вспыхнул, но он тут же погасил его, опустив веки. Этак с прищуром и откинулся на спинку стула. Очень хотелось раскрыть окно, потому что воздуха определенно стало не хватать. Мало воздуха — между ним и ею в этот момент. Но Анри странным образом не задыхался. И согрелся наконец в этих чертовых стенах, в которых невозможно не сдохнуть от холода с непривычки после вьетнамских температур.
Понимая наперед, что она сейчас ответит, Юбер все-таки спросил, очень спокойно и очень просто:
— Хочешь сказать, что ты не знала, что это я выношу резолюцию?
— Нет, конечно! — запальчиво возразила Аньес и тут же замолчала, вдруг наткнувшись на его взгляд — мрачный, злой, раздевающий до самой души, и как-то разом осознав, что вот сейчас — он ей уже не верит. Ни на секунду. Все вдруг стало на место. В рту образовалась горечь. Если Лионец доведет ее до оправданий в том, в чем не виновата, она стоит не дороже проклятого эшоде. Даст ли хоть обол за нее Юбер? Сколько вообще он за нее даст?