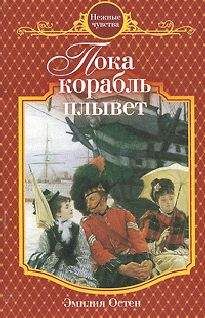проросли травы, а здесь прохладно и тихо, только воры иногда устраивают тайные встречи. Вот камень, под которым лежит Жано, мой верный слуга, спасший мою надежду, давший ей плоть. Вот здесь – отец Августин, умевший меня утешать. И вот – Мишель, мой маленький братик, которого я любила едва ли не больше всех на свете.
Отец Реми стоял на коленях перед плитой, укрывшей Мишеля, и молился. Молился на сей раз молча, ни одного слова не срывалось с упрямо сжатых губ. За эти дни он посерел, еще более устал, чем раньше. Наверное, не слишком легко ему было стоять на холодном камне.
– Идемте, отец Реми, – сказала я.
Он покачал головой.
– Идите, дочь моя, я с вами не поеду. Хочу остаться тут и помолиться.
– Вы замерзнете.
– Что такое телесное неудобство рядом с душевным? Не беспокойтесь за меня. Мне следует отдать этому мальчику последний долг, так нужно, поймите. Ступайте и ни о чем не беспокойтесь. Я к вечеру вернусь.
И я вышла, оставив его наедине с его собственными призраками, какими бы они ни оказались. Слишком велика была моя собственная боль, чтоб я могла запретить отцу Реми скорбеть так, как он того хочет.
Дома я ушла к себе, легла на кровать, не снимая траурного платья, и уснула крепко – впервые за последние дни. Мало что помню из тех сновидений. Почему-то они оказались спокойны и легки; кружился около меня расцвеченный кленовыми листьями октябрьский день, качались вдоль тропинки цветы лаванды; рука отца Реми держала мою руку, и линии жизни на наших ладонях все удлинялись и удлинялись, пока не превратились в дорогу, ведущую за горизонт.
Я проснулась на исходе дня. Все тело затекло, я отлежала руку и не сразу смогла восстановить ее подвижность, пальцы долго покалывало. Позвала Нору, та пришла, молча меня переодела – черных платьев у меня два, так что выбор невелик. Есть мне не хотелось, Нора не настаивала; в доме царило уныние, и все ему поддались. Я посидела немного перед камином, перебирая в памяти последние дни, стараясь запомнить слова, запахи, звуки. Скоро это останется моим единственным утешением. Потом я встала и отправилась в капеллу: пришла пора снова поговорить с отцом Реми.
Что бы ни случилось, ничего не изменилось в том, что я чувствовала к нему, наоборот, с каждым днем меня тянуло к нему все сильнее. Никак я не могла отказаться от него. Мне требовалось видеть его, слышать звук его голоса, снова к нему прикоснуться. Отдавала я себе в том отчет или нет, отец Реми казался мне утешением и спасением одновременно, несмотря на то что мое желание лежало в области тяжких грехов. Однако вкус греха столь привычен для меня, что я хорошо различаю оттенки и умею наслаждаться ими. Ничто не могло раньше меня остановить, и теперь ничто не остановит.
Подойдя к дверям капеллы, я с неудовольствием увидела рядом с ними мачеху. Она то поднимала руку, чтоб коснуться дверной ручки, то бессильно опускала пальцы, не решаясь. Заслышав мои шаги, она обернулась – в черном платье, как и я, лицо мучнисто-серо, губы дергаются. Я потеряла брата, а она сына, и впервые в жизни мне стало ее жаль.
– Ах, это ты, Мари, – тихо сказала мачеха без былой враждебности. – Я хотела пойти помолиться, только никак не могу зайти. Все мне кажется, что я виновата.
– Ни в чем вы не виноваты, – сказала я. – Господь всех нас туда заберет.
– Ах, Мари, Мари, – зашептала она, и я невольно склонила голову, чтобы лучше слышать ее, – это Господь нас карает, за грехи наши. Он забрал Мишеля, потому что мы много грешили.
– Он забрал Мишеля, потому что пришло ему время отправляться в рай, – произнесла я, стараясь ее утешить. – А грехи нам простятся, лишь бы не были слишком тяжелыми. Но Господь все видит.
– Такое горе, – тихо сказала мачеха, – такое горе… – И добавила, помолчав: – Но и такое облегчение. Все-таки Мишелю там будет лучше, чем здесь, на земле, где он мало что понимал. Ведь лучше, верно?
Я отшатнулась.
Она смотрела на меня прозрачными глазами – скорбящая мать, следы от слез на щеках, скомканный платок в скрюченных пальцах. О чем она молилась сегодня, о ком плакала? О золотоволосом мальчике, оставшемся в холодном склепе, или о себе?
– Ведь всем станет легче теперь, Мари. Всем станет легче. Он был не от мира сего, позорное рождение. Так что Господь решил правильно, хоть и грустно все это.
Я покачала головой, обошла ее и открыла дверь капеллы.
Отец Реми был здесь. Он лежал, распростершись на полу пред алтарем и раскинув руки в стороны; сделав несколько шагов по проходу, я увидела, что его темные волосы разметались, не связанные шнурком. Он лежал недвижно, словно мертвый, и я забеспокоилась, пошла быстрее, присела рядом с ним на корточки и только тогда увидела его лицо.
Безмятежное, залитое слезами лицо с темными кругами вокруг глаз.
Я потянулась, чтобы вытереть влагу с его щек, он приподнялся и отодвинулся, качая головой.
– Уходите, Маргарита. Сегодня я вам утешения не дам.
– Отец Реми…
– Уходите! – гаркнул он, и испуганно ахнула стоявшая у дверей мачеха. – Немедленно!
Я встала и пошла, почти побежала прочь. Ему нужно побыть одному, я знаю, для него эта скорбь отдельна, как и для меня, только он не ведает, что, прогнав меня от себя сегодня, лишил нас одного драгоценного вечера на двоих.
Если ему это нужно. Если я ему нужна.
Что заставляет нас упрямо идти выбранным путем, даже когда кажется, что нет выхода и путь ошибочен? Упрямство, вера, непреклонность. Все мои призраки стоят за моею спиною и – нет, не шепчут, но громко смотрят, их тишина бьет в уши, их взгляды – как стена, на которую можно опереться. Теперь к ним добавился и Мишель. Я должна сделать то, что хочу, и ради него тоже. Закрывая глаза, я вижу его смеющимся, чувствую прикосновение его ладони – теплой и сухой, не той безжизненной, с которой капает елей.
Утром приехала белошвейка, чтоб примерить на меня новое платье. Оно совсем простое, легкая отделка кружевом и никаких тяжелых жемчугов. Я сказала, что не нужно. Какая разница, в чем выходить замуж за виконта? Не в платье дело. То, первое, оставалось данью традициям, уступкой честолюбивой мачехе и любящему отцу, желавшему видеть мою свадьбу красивой; теперь же, когда все мы скованы свалившейся на нас бедой, ткани и драгоценности не имеют значения. Белошвейка пыталась со мной болтать, она была хорошенькая – полнотелая, курчавая, звонкоголосая – и дело свое знала, но отвечала я односложно. Отец Реми опять не вышел к завтраку, время стремительно истекало, а я не