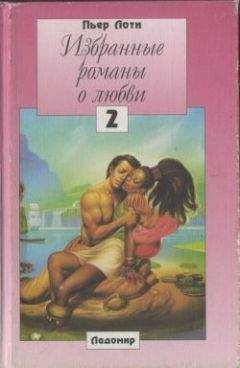Через час все захмелели; праздник удался на славу.
Самого себя я видел словно сквозь дымку, в голове бродили странные, несвязные мысли. Группы посетителей, обессилевшие и запыхавшиеся, появлялись и снова уходили в темноту. Танцоры кружились по-прежнему, и Ахмет каждый раз, пройдя круг, тыльной стороной руки разбивал по оконному стеклу.
Одно за другим все стекла хибары оказались на полу и раскрошились в пыль под ногами танцоров; руки Ахмета, испещренные глубокими царапинами, орошали пол кровью.
Видно, в Турции при бедах и огорчениях не обойтись без шума и крови.
Праздник внушал мне отвращение, кроме того, я беспокоился, что Ахмет и в будущем будет выкидывать подобные номера и так же мало будет заботиться о выполнении своих обещаний.
Я встал и направился к двери; Ахмет понял и молча последовал за мной. Холодный воздух на улице вернул нам спокойствие и самообладание.
– Лоти, – сказал Ахмет, – куда ты идешь?
– На корабль, – ответил я. – Я больше не хочу иметь с тобой дела, я выполню свое обещание так же, как ты сегодня вечером выполнил свое; ты никогда больше меня не увидишь.
Я отошел от него, чтобы договориться с припозднившимся лодочником о цене перевоза в Галату.
– Лоти, – сказал Ахмет, – прости меня, ты не бросишь так своего брата!
И он стал со слезами умолять меня остаться.
Мне тоже не хотелось покидать его, но я рассудил, что раскаяние, а также хорошая выволочка ему необходимы, и был неумолим.
Он пытался удержать меня своими окровавленными руками и в отчаянии цеплялся за меня. Я с силой оттолкнул его, и он упал на поленницу дров, которая с грохотом развалилась. Патруль башибузуков, с большим фонарем проходивший мимо, принял нас за злоумышленников и подошел ближе.
Мы стояли у самой воды в уединенном месте, вдали от стен Стамбула, и окровавленные руки Ахмета внушали подозрение.
– Пустяки, – сказал я, – этот парень выпил лишнего, и я провожаю его домой.
Я действительно взял Ахмета за руку и повел его к его сестре Эрикназ; та, перевязав ему пальцы, как следует его отчитала и отправила спать.
XIX26 марта
Еще один день – последняя отсрочка моего отъезда.
Еще один день, еще одно переодевание у «мадам», и я снова в Стамбуле. После ливня облака еще не разошлись, пасмурно, но тепло и приятно. Вот уже два часа мы курим кальян под мавританскими аркадами на улице Султана Селима. Белые колонны, деформированные годами, чередуются со склепами и гробницами. Ветви деревьев, осыпанные розовыми цветами, свешиваются с серых стен; всюду видны молодые побеги, весело бегущие по древнему священному мрамору.
Я люблю эту страну, и все эти детали полны для меня очарования; я люблю ее, потому что это страна Азиаде и она своим присутствием оживила все вокруг, – она, которая еще совсем близко и которую тем не менее я больше не увижу.
Заходящее солнце застало нас перед мечетью Мехмед-Фатиха, на той самой скамейке, на которой мы проводили долгие часы. Группы мусульман, рассеянные по громадной площади, курят и беседуют, беспечно наслаждаясь прелестью весеннего вечера.
Небо совсем очистилось от облаков и излучает спокойствие; я люблю жизнь Востока, мне трудно представить себе, что она окончилась для меня и что я уезжаю.
Я смотрю на этот древний черный портик и на пустынную улицу, которая переходит в мрачную лощину. Там живет Азиаде, и если я сделаю несколько шагов, то увижу ее дом.
Ахмет проследил за моим взглядом и с беспокойством смотрит на меня: он угадал, о чем я думаю, и понял, что я собираюсь делать.
– О Лоти, – говорит он, – сжалься над ней, если ты ее любишь! Ты попрощался с ней, теперь оставь ее в покое!
Но я решил ее увидеть, и у меня не было сил бороться с собой.
Ахмет со слезами на глазах взывал к моему разуму, вернее, к простому благоразумию: Абеддин сейчас в городе, старый Абеддин, ее владыка, и любая попытка увидеть ее безумна.
– К тому же, – говорил он, – даже если она выйдет к тебе, у тебя больше нет дома, где бы ты мог ее принять. Где ты найдешь в Стамбуле пристанище, куда пустили бы тебя с женщиной, принадлежащей другому? Если она увидит тебя или если другие женщины скажут ей, что ты здесь, это сведет ее с ума, а завтра ты все равно уедешь, а она окажется на улице. Тебе это безразлично, ты уезжаешь; но, Лоти, если ты это сделаешь, значит, у тебя нет сердца, и я тебя возненавижу.
Ахмет опустил голову и принялся ногой ковырять землю – так он обычно делал, когда моя воля подавляла его волю.
Я оставил его и направился к портику.
Прислонившись к колонне, я осматривал пустынную мрачную улицу; ее можно было бы назвать улицей города мертвых.
Ни одного открытого окна, ни одного прохожего, ни шума, ни звука, лишь трава пробивается между камнями да на мостовой распростерты два высохших собачьих скелета.
Это был аристократический квартал: старые дома, обшитые потемневшим деревом, таили в своих стенах богатое убранство; крытые балконы и галереи нависали над печальной улицей, железные решетки позволяли видеть ставни из ясеня, на которых художники когда-то рисовали деревья и птиц. Все окна Стамбула расписаны и защищены подобным образом.
В городах Запада внутреннюю жизнь дома можно угадать снаружи; прохожие сквозь незадернутые занавеси видят людей, молодых и старых, безобразных или прелестных.
В турецкий дом ничей взгляд никогда не проникает. Если дверь открывается, чтобы пропустить гостя, то лишь чуть-чуть; за дверью стоит кто-то, кто ее тотчас закрывает. Внутреннее убранство дома не видно никогда.
В этом большом доме, выкрашенном в темно-красный цвет, живет Азиаде. Над воротами красуются деревянные, тронутые червем резные изображения солнца, звезды и полумесяца. Ставни разрисованы голубыми тюльпанами и желтыми бабочками. Ни одно движение не выдает присутствия человека; никогда не знаешь, глядя на окно турецкого дома, смотрит на тебя кто-нибудь или нет.
Позади меня – большая площадь, позолоченная заходящим солнцем; здесь, на улице, все уже в тени.
Наполовину спрятавшись за стеной, я смотрю на этот дом, и мое сердце начинает отчаянно биться.
Я вспоминаю тот день, когда я увидел ее впервые за решеткой дома в Салониках. Я не знаю теперь, чего я хочу, зачем я сюда пришел; я боюсь, что другие женщины будут смеяться надо мной; я боюсь быть смешным, но больше всего я боюсь ее потерять.
XXКогда я снова поднялся на площадь Мехмед-Фатиха, солнце освещало громадную мечеть, арабские портики и гигантские минареты. Улемы, выходившие из мечети после вечерней молитвы, на мгновение задерживались на пороге, а затем располагались на широких каменных ступенях. Верующие окружали их; в середине группы молодой человек с красивым вдохновенным лицом показывал на небо. Белый тюрбан, какие носят улемы, не скрывал широкого прекрасного лба; лицо его было бледно, борода и большие глаза черны, как эбеновое дерево.[122]