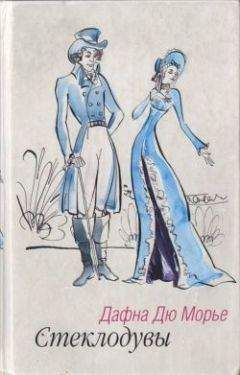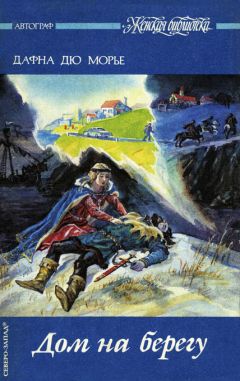– Мы сидим здесь со вчерашнего вечера. Я совсем не знала, что мне делать.
Я осветила лицо Кэти. В нем не было ни кровинки. Робер склонился к ней и взял ее за руку, а потом вдруг в ужасе воскликнул:
– Боже мой, боже мой, боже мой! – повторил он три раза подряд и только тогда повернулся ко мне. – Она умерла, Софи, разве ты не видишь?
Снаружи все еще раздавались звуки шагов, это последние зеваки расходились по домам. Мимо проходила небольшая группка людей, они весело смеялись и пели:
Vive Louis Seize,
Vive ce roi valliant.
Monsieur Necker,
Notre bon duc d'Orleans![27]
Жак вбежал в комнату и взобрался на подоконник, крича вслед марширующим людям:
– Пах… пах-пах… пах-пах…
А потом звуки песни смолкли, и на улице Сент-Оноре воцарилась тишина.
Первым моим побуждением было забрать Жака и увезти его к нам в Шен-Бидо, подальше от Парижа со всеми его треволнениями, однако Робер, когда прошло первое потрясение, вызванное смертью Кэти, сказал, что не может расстаться с сыном, ему будет слишком тяжело, и что оба они поживут какое-то время у родителей Кэти, мсье и мадам Фиат, которые переехали на улицу Пти-Пильер возле Центрального рынка, совсем недалеко от лавки в Пале-Рояле. Фиаты, которые прежде жаловались на свою старость и немощь и отказались по этой причине взять к себе внука на время родов Кэти, теперь мучились угрызениями совести и требовали, чтобы внука отдали им, столь же решительно, как прежде от него отказывались. И все-таки у меня было неспокойно на душе, когда я прощалась с мальчиком. Да и брата мне было жалко – он, как мне кажется, еще не осознал, какой удар на него обрушился.
– Я буду много работать, – сказал он мне, провожая меня до дилижанса. – Это самое лучшее средство от грусти.
Однако я не могла отделаться от мысли, что Робер имеет в виду совсем не работу в лаборатории над проблемами, связанными с фарфором и хрусталем, а дела герцога Орлеанского.
Пока мы ехали из столицы на юго-запад, разговоры в дилижансе вертелись исключительно вокруг ревейонского бунта и того, как странно он возник. Говорили о том, что среди участников не было ни одного работника с мануфактуры самого Ревейона, это были рабочие с соседних фабрик-конкурентов, а вместе с ними и другие: слесари, столяры и докеры. Были, однако, среди арестованных и двое рабочих с королевской стекловарни на улице Рейи, которая находится в двух шагах от лаборатории моего брата на улице Траверсьер.
Я молчала, однако жадно прислушивалась к этим разговорам, в особенности после того как один из моих спутников, хорошо одетый важный господин с властными манерами, упомянул одну любопытную деталь, известную ему со слов кузена, занимающего какой-то пост в Шатле,[28] а именно: у многих арестованных в карманах были обнаружены монеты с изображением герцога Орлеанского.
– Теперь не знаешь, что и думать, – отозвался сосед напротив. – Мне говорил мой шурин, что среди бунтовщиков видели переодетых священников, которые подбивали зевак присоединиться к бунтовщикам.
Все это нужно будет рассказать Мишелю, мрачно подумала я. Когда я сошла с дилижанса в Ферт-Бернаре, мне пришлось провести пренеприятные полчаса в «Пти Шапо Руж»,[29] поскольку дилижанс пришел раньше времени. Этот маленький постоялый двор служил прибежищем всяких бродяг, шатающихся по дорогам: разносчиков, жестянщиков, бродячих артистов и торговцев; последние зарабатывали свое скудное пропитание, пытаясь продать фермерам всевозможную дребедень – разные мелочи, дешевые украшения и все такое прочее.
Я ожидала в маленькой комнатке, предназначенной для пассажиров дилижанса, но до моих ушей доносились разговоры, которые велись в соседней комнате, куда приходили просто выпить и поболтать. Из этих разговоров я поняла, что Париж не единственное место, где возникали бунты. За это время беспорядки вспыхнули в Ножане и в Белеме. Я обратила внимание на одного человека, который, по всей видимости, был слепым; однако потом он приподнял повязку, закрывавшую глаз, и я поняла, что он видит ничуть не хуже, чем любой другой человек. Такие нищие нарочно притворялись слепыми, чтобы вызвать сочувствие и чтобы им больше подавали. Он все стучал своим посохом по полу и кричал:
– Нужно захватывать все обозы с зерном, а возчиков вешать. Тогда мы не будем голодать.
Я с грустью думала о бедняге Дюроше и других наших рабочих, которых сбивали с толку подобные молодчики.
Наконец Франсуа и Мишель приехали за мной, и, как это часто бывает, когда возвращаешься домой, им, оставшимся дома, было гораздо интереснее рассказывать свои новости, чем слушать мои. Смерть Кэти, бунты в Париже – все это они выслушали, торопливо выразив соболезнование, и тут же стали рассказывать мне о том, как по всей округе фермеры отказывают в работе батракам, что прежде нанимались на сезонные работы, и эти последние, сбившись в шайки, бродят по дорогам, терроризируя местных жителей. Чтобы отомстить фермерам, они калечат скот и портят посевы. Шайки местных мародеров и разбойников пополняются за счет пришельцев из соседних западных районов – из Бретани и прибрежных округов, которые находятся в столь же бедственном положении.
– Это сущие бандиты, – говорил Франсуа, – им ничего не стоит ворваться среди ночи в дом и перевернуть все вверх дном в поисках денег. Скоро нам придется завести милицию в каждом приходе.
– Если т-только мы сами не п-присоединимся к разбойникам, – сказал Мишель. – Стоит мне сказать слово, и большинство наших ребят именно так и сделают.
Итак, я вернулась к тому же самому: к нашим невзгодам и лишениям, к скверному положению дел на заводе. Может, это и к лучшему, что я не привезла сюда маленького Жака. И все-таки, когда я выглянула в ту ночь из окна и вдохнула чистый, свежий воздух, наполненный благоуханием цветущих деревьев, которое доносилось из сада под моим окном, я с благодарностью подумала о том, что я дома, под своей собственной крышей, в то время как Париж с его страшным рокотом разъяренной толпы, воспоминание о котором долго еще будет наполнять меня ужасом, остался далеко позади.
В письмах от Робера, которые он присылал нам из Парижа, очень мало говорилось о нем самом или о его чувствах; мало что узнавали мы из этих писем и о Жаке. Его по-прежнему больше всего занимал политический пульс столицы. Ему каким-то образом удалось быть в первых рядах толпы, которая собралась перед Версалем пятого мая, когда там состоялось первое заседание Генеральных штатов, и таким образом он узнал из первых рук о том, что там происходило. Его беспокоило то, что большинство депутатов от Третьего сословия были одеты в строгое черное платье и, судя по его словам, представляли жалкое зрелище рядом с высокопоставленными прелатами и аристократами, разодетыми со всем возможным блеском и роскошью.