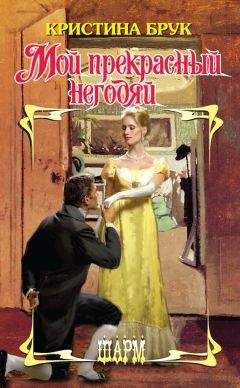Ашборн обернулся. Его удивительно мягкая улыбка обезоруживала Сесили, гасила внутреннее недовольство.
– В вашем лице, словно в зеркале, отражаются ваши внутренние переживания. В таком случае мне следует встать на защиту этого сервиза.
– В этом нет никакой необходимости, – вежливо отозвалась Сесили. – Я ведь вижу, какой это красивый сервиз.
– Гм-гм, как вы любезны, но его главное достоинство вовсе не в красоте, а в другом.
Рэнд выудил из кармана жилетки маленький ключик, чем еще больше удивил Сесили, и открыл им дверцу шкафа.
– Посмотрите на этих двух влюбленных, – сказал он, доставая одну тарелку.
Упоминание о двух влюбленных несло в себе скрытый намек и звучало несколько нелепо, но от этих слов Сесили стало жарко, а сердце забилось сильно и быстро. Приняв как можно более равнодушно-безразличный вид, она кивнула.
Нехотя взглянув на рисунок, Сесили с трудом выдавила из себя:
– Прекрасная работа.
Рэнд немного сконфузился и, рассмеявшись, чтобы скрыть смущение, произнес:
– Это мои родители.
Растерянный вид, затаенная искренность и теплота его слов поразили Сесили. Она удивилась, смутилась, покраснела. Взглянув на тарелку, она перевела глаза на другие, выставленные в ряд. Затем обратно на тарелку в ее руках и опять на сервиз в шкафу.
Наступил тот редкий момент, когда человек испытывает какое-то странное чувство – искреннее, подлинное, но трудно определимое. Сесили не знала, что говорить. Ашборн стоял рядом, совсем близко, от него пахло конской упряжью, мылом для бритья, кожей сапог, и она почувствовала в эту минуту, что он вдруг стал ей ближе и дороже. И тут она испугалась.
Стараясь взять себя в руки, Сесили уставилась – нет, скорее вцепилась глазами в рисунки на тарелках, словно пытаясь найти в этом защиту.
– Сервиз – история их любви, – тихо произнес Рэнд. Все так и было, рисунки лучше всяких слов передавали эту любовную сагу. У Сесили перехватило дыхание. Все было действительно очень трогательно.
– Должно быть, они очень любили друг друга, – при последних словах у нее задрожал голос. Она сама поразилась, насколько фарфоровая история любви растрогала ее. Любовь сама по себе очень хрупка, как и фарфор. Видимо, это скрытое, не бросающееся в глаза общее свойство невольно взволновало Сесили до глубины души.
Ашборн промолвил:
– Одни мужчины запечатлевают на фарфоре битвы и военные победы, почести и награды. А мой отец решил запечатлеть свою историю любви. Видимо, для него самой главной битвой в его жизни было завоевание руки и сердца моей матери.
Такой взгляд на любовь не мог не воодушевлять. Поражала глубина и искренность чувств. Это была в самом деле большая, пожалуй, даже великая любовь. В том или ином рисунке выражалась надежда, целеустремленность, игра чувств, разлука.
– А вот тут? – Сесили указала на рисунок, на котором корабль уплывал в море, на его палубе виднелась мужская фигура, протягивающая руки к берегу. – Куда он держит путь?
– Мой дед отослал отца во Францию, видимо, в надежде, что отец забудет о своей страсти среди парижских увеселений и развлечений.
– А на следующей?
Рэнд усмехнулся:
– А на следующей изображается, как моя мать садится на пакетбот, чтобы последовать за ним в Париж.
– Ого, – улыбнулась Сесили. – Думаю, было бы приятно познакомиться с вашей матушкой.
– Я тоже так полагаю. Во всяком случае в решительности ей нельзя было отказать.
Сесили удивленно подняла на него взгляд.
Рэнд смотрел мимо нее, куда-то вдаль.
– Моя мать умерла при родах, когда я появился на свет. Вскоре следом за ней ушел и отец. Говорили, что он умер от горя. Но на самом деле, сильно простудившись, он скончался от воспаления легких. Как мне рассказывали, последние месяцы жизни он провел здесь вместе со мной.
– Ох, – еле слышно вздохнула Сесили.
Губы Ашборна чуть-чуть искривились – то ли от грустных воспоминаний, то ли в знак признательности ее сочувствию. Узнав Ашборна поближе, Сесили поняла, что по натуре он очень скрытен, но, видимо, тяжесть от неизбывной печали по родителям вырвалась наружу, и он был не в силах ее утаить.
А вдруг он винил себя в смерти своих родителей? Нет, такое не укладывалось в голове. Хотя что тут удивительного, если сердце и рассудок находятся в несогласии друг с другом.
Невольно Сесили положила свою руку поверх его руки и тихо сжала.
Его рука напряглась, челюсть дрогнула, а он весь внутренне сжался, оцепенел. Но через миг Ашборн молча положил другую руку поверх ее маленькой ладошки – знак признательности за ее утешение.
Странное чувство овладело Сесили в этой комнате: тихая радость завладела ее душой. Удивительное ощущение, которое Сесили никак не ожидала обрести подле него. Дело в том, что в присутствии герцога Ашборна ее постоянно изводило беспокойное напряжение. Впрочем, ощущение покоя было для нее не менее, если не более, опасным из двух переживаний.
Рэнд махнул рукой:
– Посмотрите вон на тот последний экспонат.
Он достал кувшин для вина и подал его Сесили. Глина была прохладной на ощупь. На кувшине виднелись не две, а уже три фигуры. Третьим был ребенок, круглощекий крепыш, которого мать держала на руках.
– Это вы, – тихо, но уверенно промолвила Сесили.
На побледневшем лице Ашборна горели, как уголья, глаза. Они не могли лгать. Грустные, печальные, они лучше всяких слов говорили о том, что происходило сейчас в его душе. Он горевал о рано ушедших отце и матери. Он любил их, а они его, но ни ему, ни его родителям не суждено было насладиться этой любовью.
Внимательнее приглядевшись, Сесили заметила, что рисунок был выполнен в несколько иной манере, чем остальные, как будто его рисовал другой художник.
Здесь и отец, и мать протягивали вперед одну руку, как бы приветствуя и благословляя маленькое существо, желая ему счастья в жизни, которую они подарили ему.
– Это отцовский подарок, – промолвил Ашборн. – Для меня это самое драгоценное из всего, что досталось мне по наследству.
Сесили повернула кувшин, чтобы посмотреть на картуш с обратной стороны. Там был нарисован пухлый ангелочек с арфой в одной руке и с фамильным гербом в другой. Этот рисунок стал предвидением той грустной участи, которая ожидала маленького Ашборна. Ангелочек, по сути, тот же маленький мальчик, а герб в его руке означал бремя ответственности, которое легло на него одного после смерти родителей. Маленький Ашборн рос без любящей матери и заботливого отца. Как должно быть ему было тяжело! Не имея ни родственников, ни одной родной души рядом с собой, как догадалась Сесили благодаря женской интуиции.
Она, по крайней мере до шести лет, чувствовала любовь своих родителей, а потом еще десять ее нежно опекал любимый брат Джонатан. Да и позже Уэструдеры, можно сказать, стали ей второй семьей, тогда как Ашборн – это хорошо чувствовалась – был очень одинок, по крайней мере рядом с ним не было заметно никого, кто был бы ему близок и дорог.
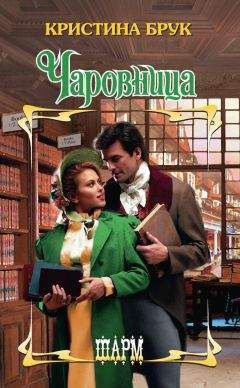

![Барбара Картленд - Милая чаровница [Милая колдунья]](https://cdn.my-library.info/books/15798/15798.jpg)