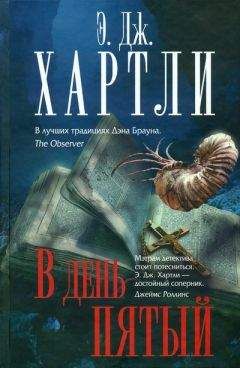Кнут прервался и поднял глаза на Констана, продолжая потирать брючину на колене. Дюмель смотрел в свое расплывчатое темное отражение в расплескавшемся по столешнице коньяке. Сложно предсказать, о чем он думал в этот момент и думал ли вообще, но словно нащупав нужную душевную нить, такую тайную и тонкую, запрятанную глубоко в душе, скрываемую от сторонних глаз, Брюннер продолжил, довольный, что сразил священника наповал. Кто знает, может, услышав доверительный его, Кнута, рассказ, Констан поведает, как сам пришел к осознанию таких отношений? И как сложно живется ему всё это время, когда он тяготеет к мужчинам, а религиозные моральные нормы строго запрещают однополую любовь? Как же хочется узнать внутренний конфликт молодого француза, отдавшего свою душу Богу, а тело — мужчине! Но всему свое время, Кнут, всему свое время… Он еще раскроется перед тобой, если ты сам будешь аккуратен и обходителен.
— Я рос дальше. Прилежный ученик, активист, отличник. Новый староста. Меня ставили в пример всему лагерю. Меня уважали младшие ребята и сверстники. Мой лучший тогда друг был рад и горд за меня. На предпоследнем курсе я участвовал в молодежных соревнованиях между лучшими организациями Союза немецких девушек и Гитлерюгенда по всей Германии. Соревнования были выездными и длились почти две недели. Именно там у меня был новый опыт отношений с мужчиной. Это был парень из другой школы. В первый же день мы достаточно быстро нашли общий язык. Он был долговязым и тогда казался робким, но в компании со мной и моим лучшим другом проявлял чувство юмора и любознательность. Однажды вечером мы вдвоем с ним прогуливались перед ночным отбоем по полю, и он вдруг заговорил, что его внезапно заинтересовала тема однополых преступлений. В своем городе он узнал о существовании подпольного клуба, где собирались люди нетрадиционной ориентации, а однажды во дворах наткнулся на заметки об отношениях однополых пар и после этого стал обращать внимание в газетах на колонки об уголовных преступлениях, когда судили за связь мужчины с мужчиной. Он рассказал, как принес несколько пропагандирующих листовок в отделение полиции, как в тот же день ее сотрудники, переодетые в штатское, нагрянули в этот клуб и многих там повязали, кто не успел убежать, а его самого похвалили за бдительность и гражданский долг. В тот момент я не признался ему, что мне было известно о подобных связях, о которых я знал от своего старосты. Моего нового знакомого волновала эта тема, но он боялся заговорить о ней со мной — боялся, что плохо о нем подумаю и осужу. Но я заверил его, что всё в порядке, и он может говорить со мной про что захочет, а я никому не расскажу. Тогда он сказал, что в том же клубе полицаями были изъяты фотографии, и во время дачи свидетельских показаний в участке он увидел откровенные снимки однополых пар в постели, на полу, диване и стал представлять в мыслях, что мужчины и женщины чувствуют в этот момент, когда совокупляются по несколько человек или друг с другом. Тут же, рассказывая мне это, он осекся и нервно начал оправдываться, что не считает себя геем, это обычное подростковое любопытство. Я же вспомнил старосту и то, что он отказался поступить со мной смелее. В тот день мне и моему новому знакомому так же, как и вожатому когда-то, было семнадцать. Мы ушли с опушки, на которой раскинулся полевой лагерь, вглубь леса. За густыми ветвями елей и высокими кустарниками я сказал, что он смело может попробовать со мной, что было бы ему интересно. Мы оба разволновались. Каждый знал, чего он хочет, но боялся проявить смелость и разочароваться в предстоящем. Мы несколько раз пробовали целоваться в губы, но быстро поняли, что нам хотелось иного. Я не хотел быть активным, наоборот, хотел принимать ласки нового приятеля, поэтому сам сказал ему об этом. Парень приставил меня к голому стволу старой ели, я обхватил дерево. Он, часто дыша и волнуясь, дрожащими руками быстро расстегивал на мне брюки, затем спустил их и жадно прижался ко мне ртом. Я взвизгнул от долгожданного удовольствия и прикусил пиджак на согнутом локте, продолжая шумно дышать в руку и дрожать от волнения. Порой парень делал мне больно и неприятно, но мне было всё равно: я был настолько возбужден, что готов был лопнуть от напряжения, и своими не сдержавшимися юношескими взрывными чувствами испачкал ему галстук и рубашку, а потом, будто опустошенный, сполз спиной по стволу дерева вниз, еле дыша. Тем временем приятель разулся и, спустив с себя шорты, подполз ко мне, согнул ноги, прицелился и резко вошел. Мы оба вскрикнули. Он стал двигаться, ему было не удобно, мне жгло нутро, он искал подходящую позу, но какое-то время спустя мы привыкли к ощущениям. Я ощущал в себе его движения, мне было одновременно хорошо и страшно. Приятель сделал это в меня и остановился. Минут пять мы лежали, восстанавливая дыхание, потом обтерлись платками и вернулись в лагерь. Никто ничего и не заподозрил. Даже мой лучший друг.
Брюннер взял в рот вторую папиросу и зажег огонек, поверх него взглянув на Дюмеля. Ну же, Констан, прояви свои нежные мужские чувства! Расскажи о своей любви к твоему тайному «бэ». Сколько ему лет? Насколько он горяч в постели с тобой? Насколько бесстыден ты сам, смиренный католический священник, в своей любви к нему? Его глаза бегают по столешнице. Он страшно взволнован. Темное одеяние, почти от самых пят до глухой колоратки на шее, скрывает молодое и, думается, красивое тело, покрытое сотнями поцелуев воюющего сейчас «бэ». Сутана превращает его в тень, сравнивает с другими католическими служителями. Но, Констан, я знаю, ты не такой. Ты другой. Я вижу это сейчас, а ты пытаешься скрыться. Расскажи свою историю, доверься человеку, хоть ты и считаешь его врагом своей нации. Но я не враг, я не нацист, я не убийца. Я — такой же, как ты, человек, имеющий и испытывающий чувства, творящий свою историю, следующий своей судьбе.
Нет. Сегодня он вряд ли расколется. Но его маска дала трещину. Остается ее только расширить.
Брюннер выдохнул сигаретный дым и продолжил, глядя вниз на свои сапоги:
— Вы не прерываете меня, Констан. Поэтому я расцениваю это как разрешение к продолжению. Что ж, слушайте дальше.
С моим новым приятелем мы не стали парой, даже не стремились. Мы испытали то, что хотели, и на этом наш опыт закончился. Не чувствовали душевное, личностное влечение друг к другу, чтобы быть парой, нет. Лишь наши тела хотели сближения, наши нервы. Мы много времени не виделись. Но еще в пору нашего нечастого общения он познакомился с девушкой из Союза, они писали друг другу письма из лагеря, а в отпусках ездили друг другу. Кажется, какое-то время они были вместе. Сейчас — не имею понятия. Наше, думалось, краткое знакомство, которое всё же продлилось некоторое время, сошло на нет, мы стали реже видеться и еще реже обмениваться письмами. Последний раз после долгой разлуки я видел его лично полтора года назад, когда была сортировка солдат и командиров по линиям фронта. Он набрал вес и отрастил усы. Тогда нам не о чем было поговорить, мы просто обменялись дежурными фразами. И даже не стали вспоминать того, что между нами было.
Констан пытался успокоиться, но это оказалось практически невозможно. Обстановка кабинета, обустроенная под Кнута, хоть прямо и не кричала о гитлеровском режиме, но была пропитана вражеским напряжением, опасностью. Одновременно Дюмель думал о многом: перед его взором в памяти всплывали лица родителей; прямо в душу из словно далеких времен мирного времени заглядывали большие глаза Лексена; он обращался к Богу и молил о прощении и сохранении его жизни; вспоминал добрый взгляд преподобного Паскаля и его старческие теплые руки. Хотелось просто исчезнуть: из этого кабинета, из этого мира, из этого времени, отмотать стрелки назад — и вновь оказаться в прелестном мае тридцать восьмого, когда его взгляд впервые скрестился с взором мальчика, оказавшимся таким чувственным и смелым…
— Вижу, вы поняли, что я из себя представляю, мсье Дюмель. — Размышления Констана прервал вкрадчивый голос Кнута. — Вернее, мое тело. Мои чувства тянутся к любому человеку, будь то мужчина или женщина. Но лишь благодаря телу можно передать человеку, к которому испытываешь симпатию, признательность, что-то подобное, то внимательное, значимое чувство, которое не можешь порой выразить словами. У вас ведь бывает такое, Констан? Когда, кажется, не хватает слов, и только крепкое объятие, страстный поцелуй передадут вашу чувственность, всё то, что хотите выразить?