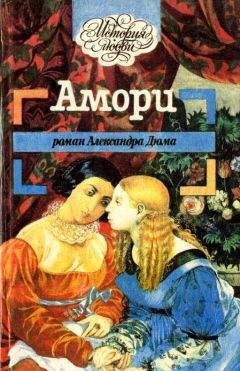— Может быть, я ошибся или в болезни, или в лечении. Именно поэтому я созвал тех, кто следует принципам, чуждым мне. Видит Бог, пусть они превзойдут меня в познаниях, пусть они меня унизят, пусть они меня раздавят, пусть, наконец, они решат, что я невежественнее сельского цирюльника. И тогда, клянусь вам, Амори, я буду рад моему ничтожеству. Пусть один из них вернет мне дочь, а вам невесту. Я не собираюсь походить на тех пациентов, которые обещают вам половину своего состояния, а, излечившись, посылают с лакеем двадцать пять луидоров. Нет, спасителю моей дочери я скажу: «Вы — бог медицины, вы всемогущий исцелитель. Вам принадлежат эти пациенты, эти почести, эти титулы, эти награды, эта слава. Я украл все это у вас, только вы заслуживаете всего этого».
— Но, увы, — добавил он после горестного молчания, качая головой, — боюсь, что я не ошибся.
Мадлен просыпается, я иду к ней. До завтра.
Сегодня утром в 10 часов Жозеф зашел предупредить, что доктора собрались в кабинете господина д'Авриньи. Я тотчас прошел в библиотеку, и там, спрятавшись за стеклянной дверью, я убедился, что могу все слышать и видеть. Они собрались там, знаменитости медицинского факультета, князья науки, носители шести имен, равных которым нет в Европе; однако, когда вошел господин д'Авриньи, они склонились перед ним, как придворные перед королем.
На первый взгляд, он казался совершенно спокойным, но я заметил по стиснутым зубам и изменившемуся голосу его скрытое волнение.
Господин д'Авриньи заговорил; он изложил им причину, по которой он их созвал, рассказал им о смерти матери Мадлен, о болезненности девочки в детстве, о тех предосторожностях, какие он принимал при ее взрослении, о своих опасениях, когда приблизился возраст страстей, о любви Мадлен ко мне. Он рассказал все это, ни разу не упомянув ее или мое имя.
Он рассказал о колебаниях отца, у которого просят руку его дочери, о вспышках болезни, чьей жертвой она едва не стала, и я с ужасом почувствовал, что приближается роковая минута, и он начнет обвинять меня. Наконец, он рассказал о последней катастрофе, угрожающей жизни больной, за которую он борется со дня ее рождения.
О, признаюсь, я вынужден опереться о стену. Но он меня не обвинял, он просто изложил факты.
Затем, после истории больной, он перешел к истории болезни, прослеживая ее во всех фазах, анализируя во всех проявлениях, показывая им развитие смерти в груди Мадлен, делая, если можно так сказать, вскрытие своей живой дочери, и все это с такой силой, с такой четкостью, что даже я, абсолютно чуждый этой науке, смог увидеть, как прогрессировало разрушение.
Боже мой! Несчастный отец! Он увидел, угадал все это и смог это перенести.
Каждое слово выслушивалось с необычайным вниманием, описания каждой фазы болезни встречалось бесконечными похвалами его наблюдательности.
Когда он посвятил их в ужасное состояние отца, знающего о болезни своего ребенка, когда он рассказал им о страданиях, убивающих нас троих, они назвали его своим учителем и своим королем.
Как это очевидно! Какая глубина анализа! От него ничто не ускользнуло! Это чудо исследования! Он увидел все так же отчетливо, как увидел бы Бог.
А он тем временем вытирал пот со лба, ибо последняя надежда уходила: было ясно, что он не ошибся.
Но, если он не заблуждается в появлении, течении и развитии болезни, может быть, он ошибся в избранном пути лечения?
Он заговорил о средствах, примененных в борьбе с недугом. Он перечислил способы лечения, заимствованные в познаниях других и найденные им самим. Он назвал лекарства, какие использовал для борьбы с постоянно возрождающейся чахоткой. Что еще можно было сделать?
Он думал об одном лекарстве, но оно оказалось слишком сильным; он подумал о другом, но оно оказалось слишком слабым. Он обращался к своим собратьям, так как он приблизился к границе человеческого знания.
На мгновение ученые мужи замолчали, и я увидел проблеск надежды на лице господина д'Авриньи.
Вне всякого сомнения, он ошибся. Разумеется, он не знал надежного средства, и сейчас его ученые собратья, прослушав его детальный анализ, смогут предложить простое, эффективное лекарство для спасения его дочери. Вот почему они молчали и сосредоточенно размышляли.
Но, увы, это было молчание, вызванное восхищением и удивлением, и вскоре похвалы возобновились, еще более цветистые и ужасные в своей безнадежности.
Господин д'Авриньи — звезда французской медицинской науки.
Все, что можно было сделать, он сделал. Ни одной ошибки, ни одного неверного шага. Они восхищены той длительной борьбой, которую человек вел с природой; увы, границы научного знания небеспредельны, больше ничего нельзя сделать, все средства исчерпаны. Если бы субъект болезни не был поражен изначально смертельным недугом, он бы излечил больного. Но какое бы чудо он ни совершил, ясно, что через две недели субъект умрет.
Я увидел, как при этих словах господин д'Авриньи побледнел, ноги у него подкосились, и он, рыдая, упал в кресло.
— Но, сударь, — спросили у него доктора, — почему вы так заинтересованы в этом субъекте?
— Ах, господа! — воскликнул бедный отец дрожащим голосом. — Это моя дочь!
Больше я не мог сдерживаться. Я вбежал в кабинет и бросился в объятия господина д'Авриньи.
Тогда эти ученые мужи поняли и молча удалились, кроме одного, который подошел к господину д'Авриньи. Это был один из тех врачей, к которым господин д'Авриньи относился неодобрительно и даже считал их своими врагами.
— Сударь, — сказал он ему, — моя мать умирает, как и ваша дочь. Как вы сделали все, чтобы вылечить дочь, так и я старался найти средство для излечения матери. Еще сегодня утром, направляясь сюда, я был убежден, что больше ничего найти нельзя. Теперь надежда вернулась ко мне: я доверяю вам свою мать, сударь, вы ее спасете.
Господин д'Авриньи вздохнул и протянул ему руку.
Затем мы вошли в комнату Мадлен, которая с улыбкой приняла нас, не подозревая, что для нас она была уже мертва».
Амори — Антуанетте
«Предпоследнюю ночь у постели Мадлен дежурил господин д'Авриньи. Но и я, лежа в своей комнате, не сомкнул глаз.
За последние пять недель, кажется, я спал не более двух суток. Вскоре, к счастью, мне предстоит долгий-долгий отдых…
Уверяю вас, тот, кто видел меня два месяца назад подвижным, веселым, полным надежды, не узнал бы сейчас мое бледное лицо и покрытый морщинами лоб. Я сам чувствую себя разбитым и постаревшим, за сорок дней я прожил сорок лет.
Сегодня утром, так и не сумев заснуть, в семь часов я спустился вниз и встретил господина д'Авриньи, выходившего из комнаты дочери. Он едва заметил меня. Казалось, только одна мысль владела им. За шесть недель он не написал ни строчки в дневнике, где он освещал события своей жизни.