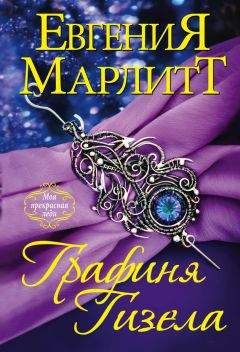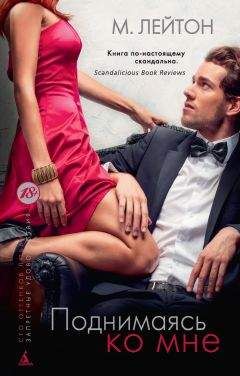Не таинственный ли перст одной из твоих прародительниц указал мне однажды на золотую монету у моих ног? Чинили птичник, и рабочие сломали часть стены. Я сидела на обломках, думала о том времени, когда были сложены эти стены, и вдруг я увидела в траве золотой. Он был не единственный — между обломками блестели золотые монеты. После ухода рабочих обвалилась еще одна часть стены, и между развалинами показался угол деревянного ящика, наполненного золотом.
Иосиф, я не поняла указания твоей прародительницы — я позвала отца, а с ним вместе пришел и ненавистный человек. Они без труда подняли ящик и открыли его ключом, бывшим в замке. Там лежали в полной сохранности оба браслета, шестьдесят тысяч талеров и пожелтевшие бумаги Гиршпрунгов. Старый Адриан все спас здесь от нашествия шведов… Я точно опьянела от счастья. „Отец! — весело воскликнула я. — Теперь Иосиф больше не бедняк!“
Отец стоял, нагнувшись, и его руки рылись в золоте. Что за взгляд упал тогда на меня!
— Сын сапожника? — сказал он. — При чем он тут?
— Это же его наследство, папа!
Я держала в руках завещание старого Адриана и указала на имя „Гиршпрунг“. О, как ужасно изменилось вдруг неподвижное лицо отца!
— Ты с ума сошла! — закричал он. — Этот дом принадлежит мне со всем его содержимым.
— Вы совершенно правы, дорогой кузен, — подтвердил Павел Гельвиг своим мягким голосом. — Но прежде этот дом со всем его содержимым принадлежал моему деду.
— Хорошо, Павел, я и не отрицаю твоих прав, — сказал отец…
Они понесли ящик в дом. В тот же день я узнала, что Павел Гельвиг потребовал двадцать тысяч талеров и один браслет и получил это.
Знаешь ли ты, как я страдала в то время, когда ты считал меня неверной и легкомысленной? Я стояла одна против моих мучителей, моя строгая, честная мать умерла, мой единственный брат был далеко… Меня заставляли молчать перед тобой и перед обществом, а я на это ни за что не соглашалась… Я сохранила завещание старого Адриана, но мои мучители этого не знали. Однажды, когда Павел Гельвиг спросил меня, чем я могу доказать находку, я показала им эту бумагу, и тогда наступила ужасная развязка!.. В тот день мой отец был в гостях и, по-видимому, выпил много вина. Он бросился ко мне, потряс с такой силой, что я закричала от боли, и спросил со злостью: неужели мне не дорога его честь? Но, не успев еще докончить фразу, он оттолкнул меня, его лицо сделалось коричневым, и он пал, пораженный ударом… Когда мы его подняли, он еще дышал и был даже в сознании, его взгляд был с ужасом устремлен на меня, и тогда сломилось мое упорство, Иосиф. Когда доктор на минутку покинул комнату, я сожгла бумагу. Я не могла смотреть на моего отца, но, отвернувшись от него, я все же обещала ему, что буду молчать и что по моей воле ни одного пятна не ляжет на его честь… Как дьявольски улыбался Павел Гельвиг при этой клятве!.. О Иосиф, я сделала это! Я обеспечила моей семье украденное наследство в то время, когда нужда бросила тебя на смертное ложе».
Фелисита закрыла книгу, она не могла больше читать…
— Тетя Кордула, тебя мучили и осуждали люди, пользовавшиеся украденными деньгами и ставившие себя на высокий пьедестал добродетели и честности. Они оттолкнули тебя, и слепое общество утвердило их приговор. Ты, оклеветанная и осужденная, хранила свою тайну. Ты никогда не проклинала тех слепых, которые часто ели твой хлеб и в нужде бессознательно принимали от тебя помощь.
Семья Гельвигов была выше подозрений. Если бы кто-нибудь осмелился указать на портрет в угловой комнате и сказать: «Это вор», его побили бы камнями. И все-таки он обманул сына сапожника; он умер, запятнав себя воровством, а его потомки гордились богатством старого купеческого дома, приобретенного «честным тяжелым трудом». Если бы это знал Иоганн! Если бы он мог заглянуть в эту книгу, он, подчинявший свои желания и чувства «священным» семейным традициям…
Фелисита невольно подняла руку с книгой, и ее глаза заблестели… Что мешало ей поставить этот серый ящичек на профессорский письменный стол?… Он войдет и сядет, ничего не подозревая, чтобы работать дальше над лежащей на столе рукописью. Он заметит ящичек, поднимет его крышку, вынет книгу и станет читать — до тех пор, пока блеск его стальных глаз не угаснет. Тогда гордое сознание своей правоты и честности будет надломлено. Он в глубине души будет нести тяжесть позора… Этот гордый человек будет навсегда унижен перед самим собой.
Книга и ящик упали на пол, и горячие слезы полились из глаз Фелиситы. «Нет, в тысячу раз лучше умереть, чем причинить ему горе!» Не те же ли уста однажды здесь же сказали: «Я бы не пожалела его, если бы с ним случилось какое-нибудь несчастье, и если бы могла помочь его счастью, не шевельнула бы для этого пальцем»?… Старая ли ненависть заставляла ее плакать и наполняла сердце невыразимой болью при мысли, что он будет страдать? Похоже ли было на отвращение то сладкое чувство, с которым она представляла себе его мужественный образ? Ненависть, отвращение и жажда мести бесследно исчезли из ее души. Она закрыла лицо руками — таинственный разлад в ее душе стал так понятен ей теперь…
Прочь, прочь отсюда — больше ее ничто не удерживало. Ей оставалось только еще раз пройти через крышу, перешагнуть через порог дома Гельвигов, и она свободна…
Она спрятала ящичек с книгой в карман и собралась идти, но вдруг остановилась, затаив дыхание. В зале хлопнула дверь, и послышались приближающиеся шаги. Фелисита бросилась на галерею, открыла стеклянную дверь — ее глаза блуждали по крыше: она уже не могла бы пройти там незамеченной, ее единственным спасением было спрятаться… Между стеной и цветочными горшками было узкое пространство. Фелисита поднялась по нему на крышу и схватилась за громоотвод… Кто бы теперь ни пришел на галерею — девушка стояла там, как воровка… Она проникла в запертые комнаты. Ее обвиняли уже в том, что она знает о краже серебра, — теперь ее вина была очевидна. Она оставляла этот дом не по доброй воле — ее выгоняли, и, как тетя Кордула, она должна была молча нести бесчестие всю свою жизнь…
Безумным взором смотрела она на галерею. Ее последняя надежда рушилась — профессор не остановился у стеклянной двери, а шел все дальше по галерее. Слышал ли он шаги убегающей девушки? Он стоял спиной к ней и мог бы уйти, не заметив ее. Но вихрь заставил профессора обернуться, и он увидел Фелиситу, судорожно схватившуюся за громоотвод.
Минуту ей казалось, что кровь застыла у нее в жилах от его взгляда, выражавшего ужас, но потом та же кровь бросилась ей в голову.