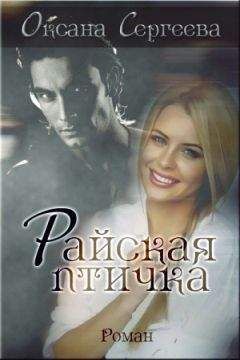Наконец я добралась до передней. Дверь оказалась на запоре. Но меня выручило окошко рядом с дверью, ведущей в сад. Оно было распахнуто. Выскочить через него в сад для меня было минутным делом.
Хюсейн спал в сторожке садовника в конце сада. Я побежала прямо туда. Длинный подол белой ночной рубашки путался у меня в ногах. Войдя в сторожку, я забралась на кровать к Хюсейну.
У Хюсейна был очень крепкий сон. Я узнала об этом, ещё когда мы жили в Арабистане7. Разбудить его по утрам было нелёгким делом. Чтобы заставить его наконец открыть глаза, приходилось садиться верхом ему на грудь, словно на лошадь, тянуть за длинные усы, как за поводья, и при этом оглушительно кричать.
Однако в эту ночь я побоялась будить Хюсейна. Я была уверена, что, проснувшись, он не позволит мне, как прежде, лежать у себя под боком, возьмёт на руки и, не обращая внимания на мои мольбы, отнесёт к бабушке.
А у меня было одно желание: провести последнюю ночь перед разлукой рядом с Хюсейном.
У нас в семье до сих пор ещё вспоминают о моей проделке.
Под утро бабушка проснулась и увидела мою кровать пустой. Старушка чуть не сошла с ума. Через несколько минут весь дом был поднят на ноги… Зажгли лампы, свечи, обыскали сад, берег моря, обшарили всё — чердак, улицы, сарай, где хранились лодки, дно бассейна. В колодец для поливки огородов на соседнем пустыре опускали фонарь…
Наконец бабушка, вспомнив про Хюсейна, бросилась в садовую сторожку, где и нашла меня спящей на груди у солдата.
У меня хорошо сохранился в памяти день нашего расставания. Это была настоящая трагедия. Сейчас я смеюсь… Никогда в жизни я так не унижалась, так не заискивала перед взрослыми, как в тот день. Хюсейн сидел у дверей на корточках и, не стесняясь, плакал. Слёзы текли по его длинным усам. Выкрикивая заклинания, которым я научилась у нищих-арабов в Багдаде и Сирии, я целовала полы бабушкиного и тёткиных платьев, умоляла не разлучать нас.
Романисты любят так изображать людей в горе: опущенные плечи, угасший взор, неподвижность и безмолвие — словом, жалкие, немощные существа.
У меня же всё было как раз наоборот. Стоит со мной приключиться беде, как глаза мои начинают сверкать, лицо становится весёлым, движения резкими, я шучу и проказничаю, от хохота теряю рассудок, словно мне всё нипочём на этом свете. Язык мой болтает без устали, я готова совершить любые глупости. И всё это потому, как мне кажется, что для человека, неспособного поведать о своём горе первому встречному или даже кому-нибудь близкому, так жить легче.
Помню, что, расставшись с Хюсейном, я вела себя именно таким образом. Невозможно описать всех моих буйных шалостей. Я словно взбесилась. Ну и досталось же от меня моим маленьким родичам, которых взрослые приводили специально развлекать меня.
Однако я очень скоро перестала тосковать по своему Хюсейну, — беспечность, достойная всяческого осуждения. Не знаю, но, может, я действительно была на него обижена. Стоило кому-нибудь упомянуть в моём присутствии его имя, как я начинала морщиться, бранить его на ломаном турецком языке, который только что начала усваивать: «Хюсейн плохой… Хюсейн нехороший…» — и плевать на пол.
Тем не менее коробка фиников, присланная мне беднягой, «плохим и нехорошим» Хюсейном, тотчас по прибытии в Бейрут, как будто несколько смягчила мой гнев. С тоской я смотрела, как коробка пустеет, и всё-таки в один присест уплела все финики. К счастью, остались косточки, которыми я потом забавлялась много недель. Часть их я перемешала с большими разноцветными бусами, которые обычно вешают на шею мулов от сглаза, и нанизала всё это на нитку. У меня получилось замечательное ожерелье, похожее на те, какие носят людоеды.
Оставшиеся косточки я повтыкала в землю в разных местах сада и много месяцев подряд каждое утро поливала их из маленького ведёрка, ожидая появления финикового леса.
Трудно приходилось моей бедной бабушке. Со мной действительно было невозможно совладать. Я просыпалась очень рано, на рассвете, шумела и бесилась до позднего вечера, пока не валилась замертво от усталости.
Как только умолкал мой голос, всех охватывало беспокойство. Это означало, что я или обрезала себе руку и втихомолку пытаюсь остановить кровь, или упала откуда-нибудь и корчусь от боли, стараясь не кричать, или же совершаю очередное преступление: отпиливаю у стульев ножки, перекрашиваю чехлы от тюфяков и т.д.
Я взбиралась на верхушки деревьев и мастерила из тряпок и щепок птичьи гнезда, лазила на крышу и бросала в трубу камень, чтобы попугать повара.
Иногда к нам в особняк приезжал доктор. Однажды я вскочила в пустой фаэтон, оставленный доктором у ворот, хлестнула лошадей кнутом и пустила их вскачь. В другой раз я приволокла на берег моря большое корыто для стирки, спустила его на воду и поплыла по волнам.
Не знаю, как в других семьях, но у нас считалось грехом поднимать руку на сироту. Если я совершала какой-нибудь очень тяжкий проступок, меня наказывали: брали за руку, отводили в комнату и запирали там.
У нас был очень странный родственник, которому дети дали прозвище «бородатый дядя». Так вот этот самый бородатый дядя называл мои руки «решёткой святых» 8. Они всегда были у меня в синяках, порезах, ссадинах, постоянно обмотаны тряпичными бинтами, как у женщин, красящих ногти хной.
Со своими сверстниками я никогда не ладила. Меня боялись даже дети, которые были намного старше. Если же вдруг в моём сердце вспыхивала любовь, что случалось очень редко, то предмету моей страсти это сулило одни неприятности. Я не научилась любить обычной человеческой любовью и относиться с нежностью к приятному мне существу. Я бросалась на объект своей любви, как волчонок, царапала и кусала его, словом, обращалась так грубо, что человек терялся.
Среди моих маленьких родственников был только один, в присутствии которого я испытывала непонятную робость и смущение, — это сын моей тётки Бэсимэ — Кямран. Впрочем, было бы не совсем правильно называть его ребёнком. Во-первых, Кямран был намного старше меня, а во-вторых, это был очень послушный, очень серьёзный мальчик. Он не любил играть с детьми, всегда в одиночестве бродил по берегу моря, засунув руки в карманы, или читал под деревом книжку. У него были русые вьющиеся волосы и нежное белое личико. Мне почему-то казалось, что если ухватить его зубами за ухо и взглянуть вблизи в эти мраморные щёки, то увидишь в них, как в зеркале, своё отражение.
И всё-таки, несмотря на робость перед Кямраном, у меня однажды произошла неприятность даже с ним. Случилось мне раз таскать с берега моря обломки скалы в плетёной корзине. И вот камень каким-то образом вывалился из корзины и ударил Кямрана по ноге. То ли камень был очень тяжёл, то ли нога моего кузена слишком хрупкой, но вопль, последовавший вслед за этим, невероятно испугал меня. С проворством мартышки я вскарабкалась на громадную чинару, которая росла в нашем саду. Ни брань, ни угрозы, ни мольбы не могли заставить меня спуститься вниз. Наконец садовнику приказали снять меня с дерева. Но по мере того, как он поднимался, я лезла всё выше и выше к самой макушке. Бедняга понял, что, если погоня будет продолжаться, я не остановлюсь, заберусь на такие тонкие ветки, которые не выдержат меня, и произойдёт несчастье. Садовник спустился вниз. А я до самых сумерек просидела на ветке дерева, словно птица.