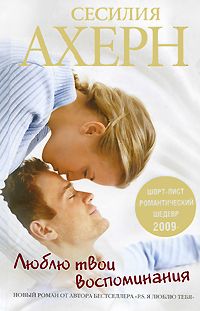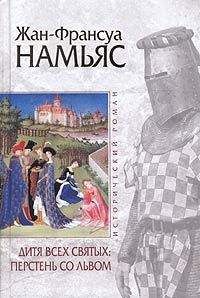— Ох и обоз у него! Ох и поезд! — раздавались в толпе голоса. — Неужто это все наш царь ему надарил? А слуги? Свои у него слуги или нанятые? И хорошее ли жалованье им дают?
— Сказывают, людей он своих привез к нам на прокорм, — говорил знающим голосом какой-то немолодой купец. — Кого только не набрал! Попа своего и разных попиков, поваров со стряпками и поварятами, служителей комнатных, учителей, чтоб его обучали шпагами ширяться, музыкантов своих, на ихней музыке играть обученных… Да еще что! — палача даже своего прихватил!
Народ хохотал.
Однако не миновало и нескольких дней, как на улицах речи зазвучали печальные.
— Что русскому здорово, то немцу смерть, — качали головами москвичи. — Небось обкушался королевич после своей иноземной голодухи. Слыхали? Сказывают, царь его с золотой посуды угощал! Ну, у того брюхо и не выдержало. Сомлел…
Спустя самое малое время после своего приезда принц Иоганн внезапно заболел. Царский дом, все придворные и свита герцога сначала лишь немного встревожились, но уже через день-другой тревога сделалась нешуточной. Герцога поразила горячка, которая усиливалась уже не по дням, а по часам. Царь весьма испугался и послал к иноземному королевичу своих докторов, аптекарей и хирургов, наказав им быть при его высочестве неотлучно днем и ночью. Даже и сам он посетил Иоганна — проливал над ним горючие слезы…
Как ни жалко было москвичам красивенького, беленького королевича, как ни желали они своей царевне счастья с пригожим женихом, однако слухи о горькой печали царя их оскорбили. Теплота, с какой народ встречал Иоганна, мигом обратилась в свою противоположность. В столице судачили: дескать, посетив самолично какого-то язычника, латина, царь сильно унизил свою честь и честь всей России. Не иначе, лишился разума! Ну а уж когда все государево семейство собралось в Троице-Сергиеву лавру — служить молебны во здравие умирающего герцога (а по всему выходило, Иоганн помрет-таки!), тут уж развел руками даже царев двоюродный брат Семен Никитич Годунов, ранее поддерживавший его в каждом шаге, преданно ловивший каждое его слово, вынюхивавший его неприятелей и даже называемый в народе «ухом государевым».
И все же царская семья пустилась в Лавру. Неуместная пышность сего почти погребального выезда вновь поразила народ. Впереди государева поезда двигалось шестьсот всадников и двадцать пять свободных коней, покрытых чепраками из сплошь златотканой парчи. За ними ехало две кареты — одна пустая, та самая, обитая изнутри алым шелком и сверху крытая золотыми пластинами, в которой доехал до Москвы королевич Иоганн, и другая, изнутри бархатная, где сидел сам государь. Первую окружали всадники, вторую пешие царедворцы. Далее скакал верхом юный царевич Федор, брат Ксении; коня его вели знатные чиновники.
Позади следовали толпой бояре, за ними — придворные. Обочь дороги, сдерживаемые стрельцами, бежали простолюдины, держа наготове свои челобитные, которые они желали передать государю. Сначала стрельцы гнали народ, однако потом по приказу царя, соизволившего хоть на время отереть слезы по чужеземцу и снизойти к своему народу, чиновники собрали челобитные, сложили в особый красный ящик и пообещали вскорости представить вниманию государя.
Через полчаса после царя из Кремля выехала царица Марья Григорьевна в великолепной карете, а в другой, поменьше и со всех сторон закрытой, сидела царевна Ксения. Первую везла десятка белых коней, вторую восьмерка. Впереди вели в поводах сорок свободных коней, а за ними следовала дружина всадников, состоявшая сплошь из почтенных, седобородых бояр; позади карет царицы и царевны ехали на белых лошадях двадцать четыре боярыни, принадлежащие к приближенным той и другой. Их охраняли триста алебардщиков.
Словом, выезды такой пышности видели в Москве не часто — жаль, что поводом к сему послужило столь печальное событие.
Сидя в своей карете рядом с ближней боярыней — она была тоже из Годуновых, каких-то дальних родственников, Ксения думала о своей неудачливой участи. Когда матушка сообщила о королевиче Густаве, которого прочили в женихи царевне, Ксения невзлюбила его за одно только имя. При мысли, что придется с ним в одну постель ложиться, на душе делалось тоскливо до слез, словно в студеный и пасмурный октябрьский день. А уж когда прослышала про его полюбовницу и двоих незаконных детей, и вовсе хоть в петлю лезь. Ксения не скрываясь обрадовалась, когда отец дал шведскому королевичу отставку. Датский герцог Иоганн ей понравился куда больше. Ох и нахохотались они с любимой служанкой Дашуткой, воображая, как королевич полезет к ней целоваться, а нос-то его мешать станет! Дашутка что-то такое нашептывала, мол, мужики с большими носами большие умельцы в постельных утехах, но Ксении все равно было смешно…
Увы, Ксении не дано было узнать, как счастлива была бы ее жизнь с датским королевичем. И все усилия докторов, и пышная поездка царской семьи в Троице-Сергиеву лавру оказались напрасны. Десять дней молились Годуновы над ракой с мощами святого Сергия Радонежского, но не дошли их молитвы до чудотворца: жених царевны Ксении умер, так ни разу и не увидав свою невесту. Похоронили его в Немецкой слободе. Вновь высыпал народ на улицы — поглазеть на похороны, и не могли люди решить, что устроил их государь с большей пышностью: въезд королевича Иоганна в Москву либо отбытие его к месту последнего упокоения.
Набальзамированное тело злосчастного герцога положили в дубовый гроб, отделанный медью, обитый большими крепкими обручами и кольцами черного цвета. Гроб поставили на большую черную колесницу, запряженную четверкой вороных коней, а впереди шли еще восемь коней под черными попонами, везли гербы королевича и его корону. Придворные все шли в черном, жалевом[3] платье, несли свечи черного воска.
Царь с сыном, сопровождаемые боярами, дворянами и дьяками, провожали усопшего по Москве с великим плачем: пешком прошли две улицы, чем несказанно удивили и уязвили московитов. Мыслимо ли такое почтение к чужеземцу проявлять? Свой народ голодом царь морит, а ради латина не гнушается ножки в пыли запачкать?! А из Дании между тем поползли слухи, что в России герцог Иоганн не просто так взял себе да и помер, — непременно отравили его по приказу царя Бориса, который убоялся соперника, коего мог бы обрести в лице королевича.
Ксения о тех слухах, по счастью, не слышала: плакала, не осушая слез, над своей горькой долей. Молила мать, подсылала ее к отцу: дескать, пустил бы дочь в монастырь, что проку стареть в унылом девичестве! Однако того участь дочери вдруг перестала волновать. Понял, что с помощью ее брака вряд ли сыщет достойных союзников. Теперь он всецело увлекся женитьбой меньшого сына Федора и начал искать ему невесту в окрестных землях. Одно посольство даже отправилось в Грузию! Однако Ксении в монастырском затворничестве все-таки было отказано.