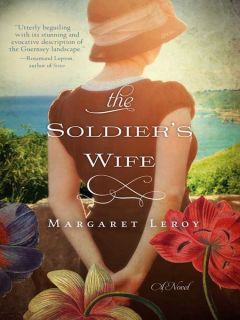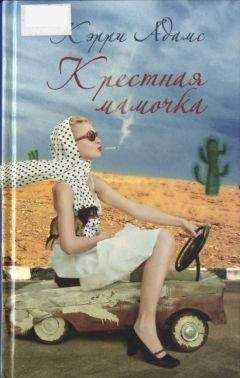— Значит, они все убийцы, — говорит она. Ее маленькое личико мрачнее тучи. Глазки сверкают. Она хватает Альфонса в охапку. Кот начинает вырываться.
— Милли. Он не может поехать с нами.
— Значит, он может жить с кем-нибудь другим, мамочка. Это же не его вина. Он не хочет умирать. Я ему не позволю. Альфонс же не просил, чтобы его родили именно в это время. Война — это такая глупость.
Как неожиданно. Невозможно. Дыхание сбивается. Я не могу огорчать ее.
— Послушай… я поговорю с миссис ле Брок, — устало и разбито говорю я. Словно вся комната выдыхает вместе со мной, когда я произношу это. Я знаю, что сказала бы Эвелин, что она уже неоднократно говорила прежде: «Ты слишком мягка с этими девочками, Вивьен».
— Посмотрим, что я смогу сделать, — продолжаю я. — Просто соберите вещи и будьте готовы.
Иду с Эвелин в дом Энжи по одной из узких дорожек, что разбегаются в ширь и даль по всему Гернси. Их запутанный маршрут не менялся со времен Средневековья.
Высокая влажная живая изгородь стоит по обе стороны проулка; на ней растет красная валериана и льнянка. Лепестки высокого и стройного дигиталиса размыто-фиолетовые, словно их очень долго вымачивали в воде. С собой у меня сумка с одеждой Эвелин и корзинка с Альфонсом.
Подъем утомляет Эвелин. Мы останавливаемся на повороте, где стоит каменное корыто для скота. Усаживаю Эвелин на его обод, чтобы она немного отдышалась. Брызги солнечного света, проходящие сквозь листья, играют на поверхности воды, скрывая все, что лежит в глубине.
— Далеко еще, Вивьен? — спрашивает она, словно ребенок.
— Нет. Не очень далеко.
Мы подходим к терновнику, растущему на пути к Ле Рут. Солидный белый дом стоит там на протяжении сотен лет. У двери растет бузина: островитяне выращивают ее, чтобы защититься от зла — чтобы ведьма облетала стороной молочные фермы, и молоко там не превращалось в масло.
Позади дома стоят теплицы, где Фрэнк ле Брок выращивает свои томаты. В грязи возятся куры; они болтают о нас. Альфонс приходит в исступление при виде цыплят и их запаха. Он извивается и царапается в корзинке. Стучу в дверь.
Мне открывает Энжи. В руке сигарета, на бигудях намотан платок. Она видит нас обеих, и в ее глазах появляется проблеск понимания. У нее теплая, широкая улыбка, смягчающая черты ее лица.
— Значит, Вивьен, ты приняла решение.
— Да.
Я так благодарна Энжи за то, что она в очередной раз мне помогает. Она всегда добра ко мне: помогает делать мармелад, подшивает платья Милли, замораживает Рождественский пудинг. Я знаю, она будет рада Эвелин. Она очень щедра.
Энжи подает Эвелин руку.
— Входите, миссис де ла Маре, — говорит она. — Мы позаботимся о вас, обещаю.
Она усаживает Эвелин возле большого очага. Та сидит на самом краешке — нерешительно, словно боится, что скамейка не выдержит ее веса. Ее руки аккуратно сложены.
— Не знаю, как и благодарить тебя, Энжи, — говорю я.
Она слегка покачивает головой.
— Это самое меньшее, что я могу сделать. Никогда не сомневалась, что ты примешь правильное решение, Вивьен. С двумя дочерьми на руках никогда не знаешь, что может случиться. — Потом, слегка понизив голос, она добавляет: — Может случиться, когда они придут.
— Да. Что ж…
Она наклоняется ко мне ближе, чтобы можно было говорить шепотом. Под солнечными лучами ее кожа становится более матовой и коричневой, как созревший орех. Ощущаю на своем лице тепло от ее дыхания с запахом никотина.
— Я слышала такие ужасные вещи, — говорит она. — Слышала, что они насилуют и потом распинают девушек.
— О Боже, — произношу я.
Меня окутывает ужас. Но я говорю себе, что это всего лишь байка. Энжи способна поверить всякому. Она любит поговорить о колдовстве, привидениях и проклятьях. Энжи говорит, что волосы будут расти гораздо быстрее, если стричь их, когда луна входит в фазу роста. А если чайки собираются на доме моряка, то это к смерти.
В любом случае задаюсь вопросом, разве могут такие зверства произойти здесь, среди квохчущих кур, запаха спелых помидоров и летнего ветерка, шуршащего в листве? Это невообразимо.
Наверное, Энжи видит сомнение в моих глазах.
— Тебе стоит верить мне, Вивьен. Ты права, что собираешься увезти девочек. Ведь она права, да, Фрэнк?
Оборачиваюсь. Фрэнк, муж Энжи, полуодетым стоит в дверном проеме. Его рубашка расстегнута и висит свободно. Вижу рыжеватые волосы на его груди. Никак не могла решить, нравится ли он мне. Фрэнк был здоровенным пьющим мужчиной. Иногда у Энжи появляются синяки под глазами, и я гадаю, не от его ли кулаков.
Он кивает в ответ на ее вопрос.
— Мы говорили об этом только вчера, — произносит он. — Что тебе следует приглядывать за девочками, если ты решишь остаться. Особенно за Бланш. Она выглядит уже почти как женщина. Я даже думать не хочу, что может произойти, если она будет здесь, когда они придут.
Он разглядывал Бланш, заметил изменения ее тела. Мне это неприятно.
— Это беспокоит, да, — неопределенно говорю я.
Он выходит на кухню, застегивая рубашку.
— Вивьен, я тут подумал. Если хочешь, я мог бы подбросить вас до корабля.
Чувствую прилив благодарности за его доброту. Мне становится стыдно за свою неприятную мысль.
— Спасибо огромное, это бы мне очень помогло, — говорю я.
— Пожалуйста.
Он заправляет рубашку. От него исходит слабый кисловатый запах пота.
— Есть еще кое-что… — говорю я и замолкаю. Мне неловко просить о большем, они и так делают слишком много для нас. — Не могли бы вы присмотреть еще и за Альфонсом? Я планировала его усыпить, но Милли была бы безутешна.
— Да благословит Господь ее доброе сердечко. Конечно, приглядим, — говорит Энжи. — Конечно, мы возьмем бедного Альфонса. Он составит компанию Эвелин, когда вся ее семья уедет.
— Я очень благодарна вам. Ты просто святая, Энжи. Ну, мне, пожалуй, пора…
Иду поцеловать Эвелин.
— Береги себя, — говорю я.
— И ты себя, Вивьен, — больше для формальности говорит она. Она сидит очень напряженно, словно, если она не сосредоточится, то развалится. — Передай мои слова любви девочкам.
Как будто она совсем недавно не попрощалась с ними сама. Как будто она не видела их уже несколько недель.
Похлопываю ее по руке, снова благодарю Энжи и спешу вниз по склону. Не перестаю думать о том, что она сказала про немцев.
Убеждаю себя, что она ошибается. Это просто непристойные россказни. Мы слышали, что во время Мировой войны немцы отрезали младенцам руки, но считали, что это просто страшные слухи.