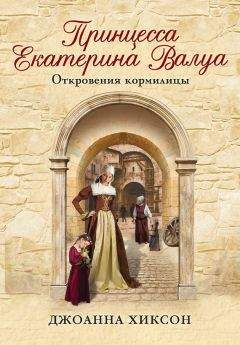Мадам Лабонн хмыкнула и отпустила мою челюсть.
– Зубы вроде хорошие, – заметила она, направив острый нос к моему влажному лифу и шумно втягивая воздух. – И запах чистый. Сколько ей?
– Пятнадцать, – сказала матушка, вставая между мной и моей мучительницей. – Это был ее первенец.
– Надеюсь, ребенок умер? Не хватало еще, чтобы в королевскую детскую тащили болезни из грязных лачуг. – Мои рыдания, видимо, ответили на ее вопрос, ибо она удовлетворенно кивнула. – Хорошо. Мы примем ее на испытание. Пять су в неделю, стол и постель. Любой признак жара или молочной лихорадки, и она уходит. – Прежде чем матушка успела оспорить эти условия, дракониха повернулась ко мне. – Прекрати рыдать, милочка, иначе молоко пропадет, и пользы от тебя не будет. Принцессу пора кормить. Я пришлю кого-нибудь, чтобы тебя к ней проводили.
Не позаботившись узнать, принято ли ее предложение, мадам Лабонн быстрым шагом вышла из комнаты. Матушка смотрела ей вслед, качая головой, но упоминание о пяти су в неделю произвело впечатление. Деловито блестя глазами, она подсчитывала, насколько увеличится теперь семейный доход.
– Попрощаемся, дочка, – хрипло сказала она и поцеловала меня в мокрую щеку. – Прекрасная возможность, Метта. Высморкайся и будь умницей. Помни, Жан-Мишель рядом. Сможешь встречаться с ним между кормлениями. – Матушка нежно вытерла мне слезы краем своей накидки. – Поначалу будет трудно, но кто знает, к чему это приведет? Со временем привыкнешь, а сейчас ребенок в тебе нуждается. Слышала, что дама сказала?
Я кивнула, едва ее понимая. Когда пришел ливрейный слуга, чтобы забрать меня, я последовала за ним, не оглянувшись. Голова кружилась, а груди, казалось, вот-вот лопнут. Я была рада освободиться от мучительной боли, независимо от того, что может последовать.
Мне положили на руки ребенка и расшнуровали лиф. Я не знала, что делать. Повитуха, древняя старушка, принявшая, наверное, тысячи родов, показала мне, как держать крохотный сверток, чтобы ищущий ротик нащупал сосок. Малышка, не в состоянии ухватить скользкую грудь жесткими деснами, разочарованно завопила. Слезы вновь хлынули у меня из глаз.
– Я не сумею, – всхлипнула я. – Она меня не любит!
– Ох, будто она чего понимает! – хрипло рассмеялась повитуха и прижала головку ребенка к моей груди. Рядом они выглядели как два спелых персика. – Малышке только и надо, что сосать. Смотри, какая она крепенькая и здоровая… Сиди тихо и жди. Сейчас она его зацепит!
И действительно, вскоре малютка присосалась к моей груди, как розовая пиявка, и я почувствовала облегчение болезненного давления. Я уставилась на ее спеленатую макушку и заметила несколько бледно-золотистых волосков между полосками ткани. Помимо этих волосков, она ничем больше не напоминала человека. Словно одна из горгулий на крыше нашей церкви. Я вздрогнула от внезапной мысли о том, что она может быть творением дьявола. А вдруг мне всучили суккуба?
Закрыв воспаленные глаза, я сделала глубокий вдох. Конечно же, она – не демон, твердо сказала я себе. Она – ребенок, дар божий, кусочек человеческой жизни, жадно прильнувший к моему телу.
В успокаивающем ритме этого таинственного действа, под тихий звук посапывания, похожий на шипение речной волны, набегающей на илистый берег, я расслабилась и ощутила, как наши пульсы совпали, как объединились, пусть на мгновение, наши жизни. И пока текло молоко, мои слезы высохли. Скорбь о потерянном сыне никуда не исчезла, но я больше не плакала.
Никому не известно, какие испытания готовит нам жизнь. Мое новое положение чуть было не окончилось так же внезапно, как началось, потому что следующим утром молоко брызнуло на белоснежный шелк крестильной сорочки, надетой на ребенка поверх свивальника. Я задрожала, ожидая, что на меня обрушится вся ярость дамы-крысы, но, по счастью, пятно осталось не замеченным под складками крестильного платья из расшитого атласа. Затем, увенчав малышку крошечным чепчиком из кружева и мелкого жемчуга, ее унесли в часовню королевы, где окрестили Екатериной – в честь девы-мученицы из Александрии, твердую христианскую веру которой не разрушили даже пытки на колесе.
Вначале от меня требовалось всего лишь кормить Екатерину, когда она плакала. Пеленала ее мадам Лабонн, никого не допуская к этой работе. Каждое утро она собственноручно меняла свивальник, убежденная, что ей одной ведом секрет, как заставить королевские конечности расти прямо. Две тупые девчонки заведовали умыванием, одеванием и качанием колыбели, однако относились к своим занятиям весьма небрежно. Спустя несколько дней гувернантка решила, что меня следует оставить при принцессе. Мой соломенный тюфяк и кроватку Екатерины перенесли в небольшую комнату башни, отделенную от основной детской толстой дубовой дверью, чтобы крики младенца не будили других детей, и оставили меня на всю ночь с королевским ребенком. Напуганная ответственностью, я боялась сомкнуть глаза, тосковала по дому и скорбела об умершем сыне, однако мое молоко текло по-прежнему обильно и устойчиво, как Сена за башенным окном.
Я никогда прежде не видела королевских детских, и многое казалось мне весьма странным. Мы находились во дворце самой расточительной королевы в христианском мире, однако, помимо расшитой жемчугом сорочки, которую быстро унесли на хранение, я не обнаружила ни единого признака роскоши или богатства. Никаких тебе колыбелей, обитых мехами, серебряных погремушек или сундуков с игрушками. Детская располагалась в отдельной башне, в задней части королевского особняка. Здесь было холодно и голо. В моей комнате имелся небольшой камин, но в нем не разводили огня. Не было и завесы на окне для защиты от осенних сквозняков. Осенними вечерами голые каменные стены тускло освещали дымные свечи и чадящие масляные лампы. Кушанья приносили из кухни королевы, однако нам не доставалось ничего, подобного изобилию, увиденному мной в день своего прибытия, – ни сочного жаркого, ни лоснящихся пудингов. Мы ели жидкий суп и хлеб, запивая их разбавленным вином или пахтой. Иногда приносили немного сыра или кусок бекона, крайне редко – свежее мясо или рыбу. Порой казалось, что мы живем в монастыре, а не во дворце.
Причину найти было нетрудно. В мадам Лабонн, несмотря на ее имя,[2] хорошего было мало. Главной ее заботой являлось не благоденствие королевских отпрысков, а обогащение самой гувернантки. Любые деньги, сэкономленные на детском бюджете, оседали в ее кармане, и именно поэтому она взяла на работу меня. Кормилице принцессы полагалось быть знатного рода, но аристократка потребовала бы более высокого жалованья и наверняка имела бы влиятельных друзей, а планы мадам Лабонн целиком зависели от того, чтобы к детской не приближался никто, обладающий связями или властью. Нас не посещали ни распорядитель дворца, ни королевский секретарь, ни казначей или хотя бы один из его помощников. Королева Изабо в детской не появилась ни разу.