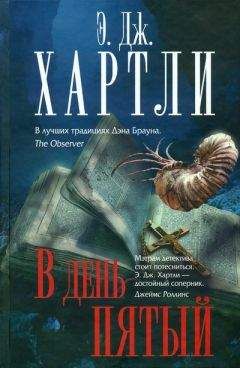Бывший сосед по квартире, где жил Констан до посвящения в сан, был евреем. Дюмель приятно удивился, когда на утреннюю службу ветреного мартовского дня пришла его немолодая соседка, занимавшая комнатку напротив в коммунальном доме. Она сильно нервничала, а взгляд блуждал по церкви в надежде найти поддержку у Констана и среди его паствы.
— Констан, мой милый Констан, я так рада вас видеть! — прошептала Валери, хватая его руки и крепко сжимая. Она поймала Дюмеля у алтаря незадолго до начала утрени, когда прихожане еще собирались и занимали места, готовясь к молитве.
— Приветствую вас. Мы так давно не виделись! Как вы решились зайти? — Констан слегка улыбнулся, доверительно накрывая ладонью дрожащие руки женщины.
— У меня плохие вести. — Женщина сглотнула, из глаз быстро скатились слезы, и она утерла их перчаткой, сбивчиво прошептав: — Вчера к Филиппу на работу приходили немцы… Они требовали собрать всех евреев, работавших на производстве… и после увезли их в неизвестном направлении. Филиппа в том числе… Они, он могут быть где угодно: в тюрьме, за городом, в подпольях… Его могут пытать, а может, и того хуже…
Дюмель в волнении сильнее сжал руки женщины. Ему не просто было в это поверить. Здесь, на окраине Парижа, почти не было столкновений с фашистами. Евреев в этих кварталах жило крайне мало, и искать их в каждой подворотне не было смысла: немцы не хотели тратить драгоценные силы в негусто заселенном районе, когда в центральных частях Парижа творились гораздо интересные вещи. Газеты писали и слухи доносили о нарастающем на пустом месте недовольстве германцев в отношении евреев и их защитников: участились нападки на иудеев — разгоняли их собрания, прерывали службы в главной городской синагоге, насильно запирали в гаражах и подпольных помещениях под видом несоблюдения комендантского часа. Чем вызывающе вели себя фашисты, тем больше смелели антисемиты: они как ночные твари, спящие днем, вдруг повылезали из темных углов, где сохранялись, заботясь о собственной шкуре, прочувствовав, как сейчас могут возвеличить себя, став борцами с ничтожными людишками, чем заслужат германскую милость, что сохранит им жизнь. На домах и квартирах, магазинах, где жили и работали евреи, разбивали стекла, ломали ставни, выбивали двери, писали красками оскорбительные слова, а евреи смиренно выносили эти страдания, молча ремонтируя поврежденное имущество, потому что знали, что никто им не поможет и никто их не защитит. Они молча выносили тычки в спину и окрики на улицах, не давали сдачи тем, кто харкал им на ботинки, перестали возмущаться, когда получали отказ в конторах, перебиваясь тем, что есть. Но были неравнодушные, кто, как мог, помогал несчастной нации. Эти люди верили: их много, их больше, чем немцев и французов-предателей. Ставя собственную жизнь под угрозу, они оформляли евреев на свое производство, давая им труд и заработок дабы помочь прокормить им семью; они делились с ними вещами и продуктами, сколько могли дать. Они верили, что зло затмится добрыми человечными и человеческими поступками: пусть даже они совершаются тайно, они имеют благородные цели.
— Откуда вы узнали? — голос Констана тоже задрожал. Валери разомкнула дрожащие губы, чтобы ответить, но тут Дюмель сжал ее ладони, скоро прошептав: — Пришло время начинать службу. Дождитесь, побудьте здесь. Помолитесь вместе со мной за жизнь Филиппа и Францию.
Валери быстро закивала. Глаза были влажны от слез. Она быстро развернулась и ушла на последний ряд. Дюмель же, провожая ее тревожным взглядом, думая о случившейся напасти, прошел к алтарному возвышению и развернулся к прихожанам.
Когда он окончил службу, причастил и благословил паству, движением руки пригласил к себе Валери и отвел ее в дальний угол, мягко взяв за плечи тихо рыдающую женщину.
— Что произошло? К вам кто-то приходил? — спросил он.
Женщина молча опустила руку в свою сумку и извлекла из нее помятый бумажный лист, протянув его Дюмелю. Тот взял его и прочитал текст. Сердце упало. Это была антисемитская листовка с печаткой орла Вермахта и кричащими фразами: «Француз! В твоем доме был замечен проживающий с тобой еврей! С ним поступят по закону и по совести! Остерегайся таких, как он! Если ты знаешь еще евреев, не зарегистрированных должным образом, сообщи об этом нам!». Ниже были написаны адреса, куда следовало бы сообщить о евреях.
— Это было наклеено на входной двери со стороны этажа… — Пояснила женщина, забирая лист у Констана и пряча его обратно в сумку. — Мы не знаем, куда обратиться и что делать. Любой наш неверный шаг может стоить жизни Филиппу! Соседи теперь так молчаливы, избегают смотреть на нас и заговаривать с нами. Они не против нас, они просто бояться за себя.
— Я их понимаю, — покивал Констан. — Кажется, единственное, что сейчас можно делать — это ждать и надеться на лучшее. Любые меры могут быть опасны.
— Я это знаю и понимаю. Но невозможно сидеть на месте, постоянно думая о Филиппе… — Произнесла Валери, отворачивая лицо.
Повисло тяжелое молчание. В голове Дюмеля крутилась мысль, бешеная, страшная, безумная. Он пойдет в резиденцию, где находится Брюннер, и поговорит с ним, а если его нет, то оставит для него сообщение. Кто ему может запретить? С другой стороны, кто его может послушать? Кроме Кнута у Констана нет связи с Вермахтом, с германской силой. Как же гадко и противно звучит — «связь с Вермахтом»… Он ни за что и никогда не заключит никакую сделку с этими адовыми бесами! Но сейчас это действительно может повлиять на ситуацию: попросить за Филиппа у… Нет, нет, нет! Что за вздор! Нет, ни за что и никогда! Но…
Констан разрывался. Он не решился поведать Валери историю его знакомства и отношений с младшим командиром немецких войск. Об этом не знал никто и вряд ли когда-либо узнает, если он сам не расскажет. Это его личное дело.
— Всё образуется, Валери. Я в этом уверен. — Констан ободряюще сжал женщине руки, но сам не верил в силу своих слов. Он думал, что обманывается и обманывает. — Держитесь сами и передайте мои слова поддержки соседям. Филипп не сделал ничего дурного и оскорбительного. Надеюсь, его скоро отпустят. В наших силах только ожидать и уповать.
Валери робко улыбнулась, во взгляде проскользнула слабая надежда. Дюмель обнял ее, благословил и проводил до выхода из церкви.
— Я зайду к вам сегодня вечером. Обязательно зайду, — на прощание пообещал Констан.
Наступило вечернее время. Служба окончена, приход приведен в порядок для подготовки к завтрашней утрени. Переодевшись в сутану и накинув на плечи пальто, Дюмель покинул сад и уехал в город. Но сперва он решил навестить мадам Элен. Сердце его было неспокойно. Он хотел разделить с ней свое волнение и встретить поддержку, услышать слова, которые он надеялся услышать. Он хотел, чтобы она встретила его теплыми объятиями, которые умеют дарить только матери. Пока он ехал в пойманной на Порт де Сен-Клу гужевой повозке и смотрел на мрачные улицы пустующего, пребывающего в страхе Парижа, кутаясь в пальто от ветра, мысли были полны неустанной тревоги за родных ему людей.
После нового года пришло второе письмо от родителей. Сердце Констана упало, когда он бросил взгляд на цензурные печати неаккуратно разорванного конверта, и впился в строчки адреса отправителя. Если узна́ют, откуда доставляется почта, там будет нанесен авиаудар, который сотрет с лица земли весь городок, и обломки зданий погребут под собой тысячи невинных жизней эвакуированных — такие страшные мысли взволновали разум молодого священника. К бескрайнему облегчению строки были незаполненны: на них стоял лишь какой-то номерной штамп, видимо, обозначавший код места прямого отправления. Текст письма был пронизан родительской лаской и любовью. Дюмель читал и перечитывал бесценное письмо до поздней ночи под светом лампады в своей комнатке. Свидетелем его слёз была только крупная серебряная луна, заглядывающая в окно. Родителей подлечили, они завели знакомство с несколькими такими же супружескими парами, с которыми периодически собирались во дворике здания, где их разместили для проживания, и погружались в философские думы о войне и мире. Денег практически не было, новой одежде неоткуда взяться, поэтому они стирали и перестирывали, латали и перешивали то, что у них было, с чем они уехали. Но зато был физический труд, не позволяющий телу усохнуть. Отец Констана убеждал свою супругу, что в силах отработать смену водителем грузовика, но в итоге его едва хватало на половину. Отец нескоро смирился с тем, что силы оставляли его: из-за недоедания, из-за разлуки с единственным сыном, из-за страшной войны, пошатнувшей и разрушившей привычный, оказавшимся таким хрупким мир. Все свои заработки и положенную долю пропитания отец отдавал матери Констана, оставляя себе гроши и крохи: ты женщина, говорил он, ты слабее меня, поэтому тебе нужны силы. Та набрасывалась на мужа с упреками и честно делила всё между ними поровну, но мяса добавляла мужу больше обычного, недоедая сама. Несмотря на непростое и достаточно шаткое положение, родители Констана оставались счастливы, что судьба распорядилась так, а не иначе: могло случиться гораздо много худшее, о чем они решили умолчать и не упоминать в письме сыну.