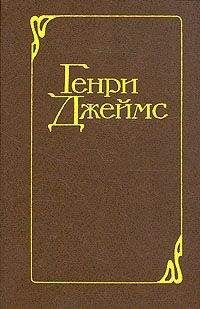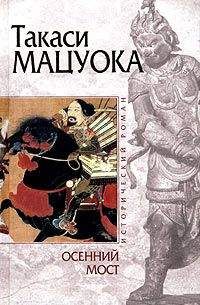— Он, видно, там дневал и ночевал! — сказал ей доктор. — Надо будет заглянуть в винный погреб. Можешь не церемониться и говорить мне правду я уже выложил ей все, что я об этом думаю.
— Да, по-моему, он частенько хаживал в твой дом, — подтвердила миссис Олмонд. — Но, согласись, что, оставив Лавинию одну, ты лишил ее привычного общества; естественно, ей захотелось принимать гостей.
— Вполне согласен; потому-то я и не стану ругать ее за выпитое вино. Спишем его как возмещение Лавинии за одиночество. Она вполне способна объявить, что выпила все сама. Какая же, однако, вульгарность с его стороны — пользоваться чужим домом! Как он посмел вообще приходить в мое отсутствие? Вот тебе весь его характер — хуже уж просто некуда.
— Спешит урвать что может, — согласилась миссис Олмонд. — Лавиния готова была кормить его целый год — как же упустить такой случай?
— Ну так пускай она теперь кормит его всю жизнь! — вскричал доктор. — И уж за вина ему придется платить отдельно, как это делают за табльдотом.
— Кэтрин мне сказала, что он открыл контору и зарабатывает уйму денег, — заметила миссис Олмонд.
Доктор удивленно посмотрел на нее.
— Мне она этого не сказала, и Лавиния тоже не удостоила меня такой чести. Понятно! — воскликнул он. — Кэтрин отреклась от меня. Впрочем, это неважно! Могу себе представить, что у него за контора!
— От мистера Таунзенда она не отреклась, — сказала миссис Олмонд. — Я поняла это в первую же минуту. Она вернулась точно такой, какой уезжала.
— Вот именно — ничуть не поумнела. Объездила всю Европу и не увидела там ровно ничего — ни одной картины, ни одного ландшафта, ни одной статуи, ни одного собора.
— Еще бы ей глядеть на соборы — у нее совсем другое было на уме. Она не забывает о нем ни на минуту. Как я ее жалею!
— И я жалел бы ее, если бы она меня не раздражала. Постоянно, каждую минуту. Я испытал все средства. Я был поистине безжалостен; никакого толку — с ней ничего нельзя поделать. Она меня просто бесит. Сначала я был настроен благодушно и испытывал известное любопытство. Мне было интересно посмотреть: неужели она так и не отступится? Видит небо, я более чем удовлетворил свое любопытство! Она вполне убедила меня в своем упрямстве, и, может быть, хоть теперь ему придет конец.
— Не думаю, — сказала миссис Олмонд.
— Остерегись — не то я и от тебя тоже стану приходить в бешенство. Если она не оставит своего упрямства, я сам положу ему конец; и это будет конец нашего совместного пути — я выкину ее посреди дороги. Подходящее местечко для моей дочери — в дорожной пыли. Кэтрин не понимает, что лучше спрыгнуть, не дожидаясь, пока тебя столкнут. Дождется — а потом станет жаловаться, что ушиблась.
— Не станет, — сказала миссис Олмонд.
— И это взбесит меня еще больше. Самое неприятное — это что я бессилен что-либо предотвратить.
— Что ж, если Кэтрин придется падать, надо подложить ей побольше подушек, — улыбнулась миссис Олмонд. И в исполнение своих слов она принялась опекать девушку с истинно материнской добротой.
Миссис Пенимен тотчас написала Морису Таунзенду. Их связывали теперь самые близкие отношения, но я ограничусь упоминанием лишь некоторых сторон этой близости. Миссис Пенимен испытывала к Морису совсем особое чувство, в котором, если не толковать его превратно, не было ничего неподобающего. Ее симпатия к красивому молодому человеку, обиженному судьбой, была сродни влюбленности и все же по своей природе не могла служить для Кэтрин поводом к ревности. Сама миссис Пенимен к племяннице не ревновала. Себя она видела в роли сестры Мориса или его матери — сестры или матери, наделенной страстной натурой, — и испытывала всепоглощающее желание обеспечить ему счастливое и беззаботное существование. Этим она и занималась весь год, после того как отъезд брата развязал ей руки, и усилия ее сопровождались успехом, о котором было сказано выше. Своих детей у миссис Пенимен не было, и, как ни старалась она излить на Кэтрин те чувства, которые природа предназначила для отпрысков мистера Пенимена, племянница лишь отчасти вознаградила ее старания. Избрав Кэтрин объектом родственной любви и попечений, миссис Пенимен обнаружила, что девушке недостает эффектности и шарма, которые, как она полагала, наверняка были бы свойственны ее собственным чадам. У миссис Пенимен даже материнские чувства нашли бы приподнятое, романтическое выражение, а Кэтрин по самой своей натуре не возбуждала романтических страстей. Миссис Пенимен ничуть не остыла к ней, но начала понимать, что Кэтрин для нее — объект неблагодарный; Кэтрин не давала ей возможности проявить свою душу. И посему свои душевные богатства тетушка — не лишая Кэтрин ее доли — стала обращать на Мориса Таунзенда, и уж тут ей представились широкие возможности проявить себя. Она была бы счастлива иметь красивого и властного сына и непременно принимала бы живейшее участие в его любовных делах. Именно в таком свете она теперь рассматривала Мориса, сначала снискавшего ее симпатию своей изящной, рассчитанно-почтительной манерой обращения, против которой миссис Пенимен никогда не могла устоять. Впоследствии он расстался с былой почтительностью, предпочитая не разбазаривать свой капитал, но симпатия уже была завоевана, и даже жестокость молодого человека приобрела известную ценность для миссис Пенимен: это была как бы сыновняя жестокость. Имея родного сына, миссис Пенимен, вероятно, боялась бы его; на этой стадии нашей истории она, безусловно, боялась Мориса Таунзенда. Таково было одно из последствий его частых визитов на Вашингтонскую площадь. Он обращался с миссис Пенимен очень вольно — как, кстати говоря, он, несомненно, обращался бы со своей родной матерью.
Письмо ее содержало предостережение; оно извещало молодого человека о том, что доктор по-прежнему упорствует. Возможно, у миссис Пенимен мелькнуло предположение, что Кэтрин, должно быть, и сама сообразила снабдить возлюбленного сведениями такого рода, но, как нам известно, тетка частенько недооценивала племянницу; кроме того, она считала, что не может полагаться на действия Кэтрин. Миссис Пенимен исполняла свой долг независимо от племянницы. Я уже говорил, что ее юный друг обращался с ней весьма вольно, и вот пример тому: он не ответил на письмо. Он внимательно прочел письмо, усвоил сведения, а потом разжег им сигару и принялся ждать следующего — в полной уверенности, что оно придет. "У меня кровь стынет в жилах, когда я представляю себе, какие мысли роятся в его уме", — написала миссис Пенимен о своем брате; казалось бы, к этому уже нечего добавить. Однако она написала вновь, прибегнув к иной метафоре. "Его ненависть к вам горит страшным огнем — огнем, не угасающим ни на секунду, — писала она. Но вашего будущего он не освещает — оно повергнуто в мрак. Когда бы это зависело от меня, каждый день вашей жизни был бы полон сияния солнца. От К. ничего невозможно узнать — она такая скрытная, в точности, как ее отец. Похоже, что она рассчитывает скоро венчаться и явно готовилась к этому в Европе, накупила платьев, десять пар туфель и пр. Но вы же понимаете, друг мой, что одних туфель мало для начала замужней жизни. Напишите, что вы об этом думаете. Как мне не терпится увидеть вас; мне надо вам столько всего рассказать! Ужасно вас недостает — дом кажется таким пустым! Какие новости в городе? Как подвигается ваше дело? Это был отважный поступок — открыть свое дело! Можно мне навестить вас в конторе? Я бы пришла всего на несколько минут! Я могла бы сойти за клиентку, или как это у вас называется? Я могла бы купить что-нибудь, акции или какие-то железнодорожные приспособления. Напишите, что вы думаете об этом плане. Я бы пришла с reticule [дамский ручной мешок, какие носили горожанки], как простолюдинка".