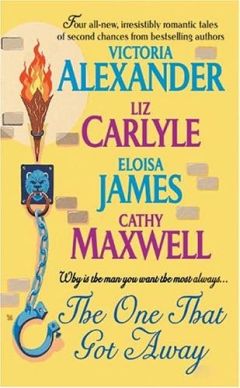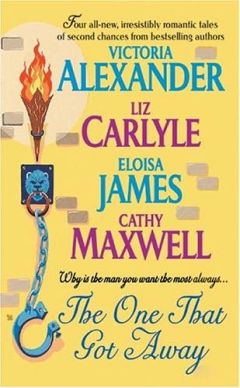— Именно такие вещи довели моего отца до безумия, — кивнул Симеон.
— Безумия… — беззвучно повторила Исидора.
— Наверняка он был безумен, — проговорил Симеон, двигая бумаги по столу.
На мгновение Исидора залюбовалась его длинными пальцами. Симеон вытащил какой-то документ.
— Это от деревенской швеи, которая просит вознаграждение за две крестильные рубашечки. Крестильные рубашечки! — повторил он. — Ей так и не заплатили!
— Полагаю, этому счету тринадцать лет, учитывая возраст твоего брата, — сказала Исидора.
— Долгая болезнь, — вымолвил Симеон. — Только болезнью можно все это объяснить.
— А твой отец не указал на письме, почему он ей отказывает?
— Он написал, что рубашки ему ни к чему и что она должна забрать их, — ответил Симеон. — Дата его записи не проставлена, но я почему-то уверен, что он сделал ее уже после крещения.
— Не думаю, что Мопсера стоит наказывать за безумие старого герцога, если уж ты так это называешь.
Симеон снова сжал кулаки.
— Его извели фальшивыми счетами. Отец чувствовал, что его окружают преступники, которые охотятся за его деньгами. Впрочем, по сути, так оно и было.
— Эти люди были в отчаянном положении.
— Вероятно. — Симеон снова сложил документы. — Сейчас можно сделать лишь одно: заплатить по счетам, несмотря даже на то, что они могут быть фальшивыми.
— Самое главное для нас — доказать всем, что мы — люди чести, — проговорила Исидора. — Убедить их, что мы будем платить по счетам честно и вовремя.
— Я не совсем уверен, что давать деньги вору вроде Мопсера — это самый лучший путь добиться в них этой уверенности.
— Но он же не сможет и дальше дурачить тебя, — заметила Исидора. — Судя потому, что ты мне сказал, ты сможешь подсчитать каждую свечу, которую мы сожжем в будущем.
Его руки слегка расслабились.
— Не знаю, стоит ли рассматривать твои слова как комплимент, — сказал Симеон.
Встав, Исидора обошла угол письменного стола. А затем прикоснулась к его густым ненапудренным волосам. Исидора была вынуждена признаться, что без пудры они просто восхитительны на ощупь. А ведь она привыкла к мужчинам, у которых плечи вечно засыпаны белым порошком, а их волосы стоят торчком, застыв от помады, напудрены либо завиты. Но волосы Симеона сияли здоровьем, нависая над бровями взъерошенными кудряшками.
Он вопросительно посмотрел на нее, и их глаза встретились. Ее палец пробежал по его волосам ко лбу, а затем спустился вниз к переносице и губам…
— Пытаешься отвлечь меня? — В его голосе зазвучал некоторый интерес.
Исидора уселась к нему на колени.
— А это возможно?
— Да.
— В таком случае я отвечаю на твой вопрос утвердительно. — Исидора обвила его шею руками, но он не шевельнулся, не обнял ее в ответ. А в его глазах появилось такое выражение, которое не… — Почему ты так осуждающе смотришь на меня? — спросила Исидора. — Неужели запрещено целовать собственную жену, даже если она останется ею ненадолго?
— Пытаюсь понять, не нарушаю ли я правил, — сказал Симеон.
Исидора тихонько вздохнула. От него пахло виноградом, специями и чистотой. Если она будет держаться ближе к нему, то даже не сможет вспомнить, какое зловоние распространяют нечищеные уборные. У него такие красивые губы, поэтому Исидора потянулась, желая поцеловать.
Симеон погладил ее губы — лишь для того, чтобы твердо отстранить ее от себя.
Исидора почувствовала, что в ней вспыхнула обида. Она опустила глаза, пытаясь придумать, как бы грациозно соскользнуть с его колен и не подать виду, что ее обидел его жест.
— Черт! — неожиданно проревел Симеон и накрыл ее губы своими губами. Это был страстный поцелуй. Если сама Исидора только пощекотала его рот губами, то он на этом останавливаться не собирался. Симеон целовался так же, как говорил: решительно, прямо, удивительно честно. И его поцелуй сказал ей: «Я тебя хочу!»
Исидора откинула голову назад и всем телом прильнула к Симеону, позволяя прикосновению его рта воспламенить каждую ее клеточку. Она все крепче прижималась к мужу, понимая: то, что она сейчас испытывает, — это страсть. Добрая, старомодная страсть. Эта страсть, обнаружила Исидора, заставляет ее дрожать и плавиться. Она заставила ее забыть, что Симеон только что продемонстрировал ей такую же скупость, какой прославился его отец.
Да, страсть затмила ее разум, все мысли исчезли из ее головы, там лишь снова и снова повторялись одни и те же слова: «Не останавливайся!»
Разумеется, он остановился.
— Все эти годы я избегала поцелуев, потому что мне сказали, что в них нет ничего хорошего, — промолвила Исидора, силясь взять себя в руки. Она старалась говорить беззаботным тоном, словно ей вовсе не составляло труда держать спину прямой.
Его взгляд был неистов, как у проповедника. Застонав, Исидора позволила себе уронить голову ему на плечо.
— Только не говори, что хочешь извиниться.
— За что?
— За то, что поцеловал меня. У тебя такой вид, словно тебе кажется, что ты совершил большой грех.
— Нет.
Однако Исидоре показалось, что его голос звучит неуверенно.
— А ты когда-нибудь терял над собой контроль? — с любопытством спросила она.
— В каком смысле?
Даже его ответы осторожны и продуманны!
— Ты когда-нибудь ругаешься? — с надеждой спросила Исидора. — Употребляешь имя Господа нашего всуе? Богохульствуешь?
Симеон задумался.
А Исидора, которую немного смутило его замешательство, решила отвлечь Симеона своим любимым словечком: «bastardo» [4]. Правда, оно напомнило ей ее мать, добрую католичку…
— Иногда, — наконец ответил Симеон.
— А в каких именно случаях? Когда ты убегаешь от льва или когда случайно ударяешься локтем о дверной косяк?
В его темных глазах мелькнула улыбка, которая взволновала ее, как опера волнует каждого итальянца.
— В случаях, когда человек убегает от льва, — произнес он медленно.
Уголок рта Исидоры дрогнул.
— Так я и думала, — промолвила она.
Но его взгляд вновь стал серьезным.
— Если ты готов ко всевозможным случайностям, то у тебя не возникнет необходимости бояться неизвестного или сердиться на него.
— Потому что неизвестного не существует?
— Именно так.
— Стало быть, ты никогда не будешь кричать на меня?
— Надеюсь, что нет. Мне было бы стыдно кричать на жену. Или на любого слабого человека, — сказал Симеон.
Брови Исидоры сошлись на переносице, а спина напряженно выпрямилась.
— Любой слабый человек — это, конечно, тот, кто имеет какое-то отношение к супружеской жизни? — спросила она.