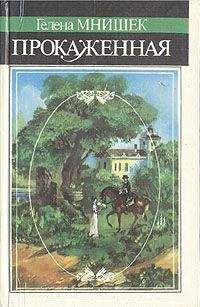— А есЛи я хочу как раз погибнуть?
— Лжешь!
— Я хочу этой свадьбы и приду к своей цели!
— Это не цель, это упрямство, каприз… месть…
— Богдан, как ты смеешь?!
Михоровский бережно взял ее руки в свои, заглянул в глаза. Она опустилась в кресло. Богдан сел рядом.
Они молчали.
Люция вдруг почувствовала растущую тревогу, желание убежать. Она боялась смотреть на Богдана — ее веселый кузен вдруг стал совершенно другим человеком, и Люция не могла понять, что он замышляет.
Рядом с ней сидел другой человек, новый, загадочный, будивший любопытство… и страх.
Слишком резко попытался Богдан вырвать ее из летаргического сна, из покорной апатии, и Люция готова была возненавидеть его за это.
Она шла прямо к пропасти и не хотела открывать? глаз — зачем же он пытается поднять ей веки?!
Из жалости?
Из непонятного злорадства?
И вдруг, словно сверкающий метеор, в душу Люции ворвалась надежда:
— А вдруг он… вдруг он прибыл по поручению майората…
Люция не посмела вслух спросить об этом. Надежда всецело овладела ею, а Богдан отодвинулся куда-то в вдаль, стал мелким посредником… а Вальдемар… а Вальдемар — трусом, спрятавшимся за спину кузена…
Надежды угасли. Люция почувствовала отвращение и к Богдану, и к Вальдемару, одновременно ощутив:, сочувствие и жалость к Брохвичу, жертве заговора Михоровских. И Люция решила забросать Богдана язвительными насмешками, явно показать ему свое отвращение.
Однако Богдан опередил ее, произнеся мягко, но решительно, словно констатируя известное всем:
— Ты не любишь Брохвича…
— Не люблю, — отозвалась она, как эхо.
— Значит, ты совершаешь… низость. Умышленно, безжалостно, из-за раненой гордости соглашаясь на брак с тем, кого не любишь…
Она молчала, вся дрожа. Богдан неумолимо продолжал:
— От отчаяния можно убить, но замуж от отчаяния выходить нельзя. Это получится не убийство, а навеки искалеченная жизнь. Более того, ты не любишь и майората.
Она вскрикнула:
— Ты с ума сошел! Замолчи!
«Что он замышляет? — подумала она. — Что все это значит?»
Неуверенность и страх отразились на ее лице. Но вскоре она овладела собой, холодно взглянула в глаза Богдана:
— Я тебя не понимаю, кто из нас сошел с ума?
— Люци, послушай меня…
— Немедленно объясни, куда ты клонишь!
— Куда клоню? Хочу объяснить тебе, что ты не любила майората и не любишь…
Люция встала:
— Довольно! Прощай. Ты сущий ребенок… и ужасно смешон.
И она быстро вышла из комнаты.
Но Богдан долго еще слышал ее смех неестественный, пылавший ненавистью к нему… и полный печали.
Но слова Богдана, запавшие в душу Люции, постепенно начали оказывать свое действие.
Люция провела бессонную ночь, борясь с самыми противоречивыми чувствами, испытывая страшный внутренний разлад. Слишком сильный удар она получила накануне решающего шага. Она уже свыклась было с мыслями о замужестве — но в глубине души жила надежда избежать его. И эта надежда вдруг ожила…
Люция спрашивала себя, что же теперь делать?
Как освободиться от тесных пут, казавшихся ненавистными?
Но если она вырвется на свободу, где и в чем искать спасения?
Остаться с тяжестью на душе?
Или идти к венцу, словно ничего не произошло?
Богдан… Богдан — словно ангел-хранитель, явившийся выручить ее! Протянувший ей руку помощи!
Нельзя отвергать его! Нужно поверить ему, признаться себе самой, что совершаешь низость, и отказать Ежи!
Но ведь это означает совершить очередную низость! Убить душу Ежи! Можно ли поступать так ради сохранения собственного душевного спокойствия?
Люцию мучили сомнения. Не будет ли ее отказ Брохвичу тем, что навсегда отяготит ее душу, — сознанием нового преступления?
Есть ли благородство в том, чтобы лишить любящее сердце Брохвича столь желанного им счастья?
В чем, наконец, больше благородства — в правде, открыто высказанной в глаза, или в сочувствии к чужой любви и надежде?
Люция ощущала страх перед Богданом, но не избегала его. А он был настойчив, и они беседовали часами. Богдан убеждал, Люция упорно защищалась.
Ее странное состояние, напоминавшее то ли горячку, то ли бред наяву, беспокоили княгиню, и еще более — Брохвича. Граф смутно начинал подозревать, что появление Богдана станет крахом всех надежд.
Дня через два Люция уже сама искала разговоров с Богданом. Его откровенность и безапелляционные суждения пугали Люцию, поражали, сердили, но и убеждали. Она не признавалась в том себе сама, но долгие уговоры Богдана совершили переворот в ее душе. Она поняла, что не сможет отдать руку Брохвичу. Ей показалось, что враг, долго и неустанно преследовавший ее, вдруг потерял след, она укрылась за могучей стеной Сомнения, готовая к решительным действиям, стряхнувшая прежнюю апатию и оцепенение. Она дрожала то от страха, то от радости пробуждения. Майорат уже отодвинулся куда-то вдаль, словно мираж в пустыне. Брохвич, хотя Люция видела его каждый день, тоже стал своего рода смутным видением, утонул в хаосе новых открытий, и откровений, гипнотически действовавших на Люцию.
Только Богдан был живым, реальным. Он тиранически воздействовал на Люцию, часто раздражал своей аргументацией, сокрушал волю девушки — но и убеждал…
Люция, испуганная близившимся днем бракосочетания, хваталась за слова и аргументы Богдана, словно за якорь спасения и надежды. А Михоровский становился все смелее, чувствуя свою силу, стал судьей и арбитром в затянувшемся споре.
Люция все же терялась в догадках — что движет Богданом, какие мысли, какие побуждения? Он упорно твердил Люции, что она не имеет права выходить за Брохвича, не любя его, ибо тем самым сделает бедного графа еще несчастнее; что она не любит майората и никогда его не любила; что ее чувства к Вальдемару были не чувствами, какие женщина испытывает к мужчине, а детской жаждой обладания красивой игрушкой; что она любила не реального майората, а существовавший лишь в ее воображении идеал…
Люция, не раз удивлявшаяся меткости суждений Богдана, в глубине души вынуждена была признать, что он прав.
Однажды их разговор протекал особенно бурно. Люция соглашалась с Богданом в том, что с Брохвичем следует порвать, но все еще не готова была признать, что Богдан прав, уверяя ее, будто ее отношение к Вальдемару далеко от истинной женской любви.
— Ты же не знаешь, что происходит в моей душе! — горячо сказала она.
— Знаю, Люция… Твои чувства к нему никак нельзя назвать настоящей, глубокой, великой любовью. Ты не Стефа, по-настоящему любившая его… Попросту ты с детских лет увлеклась блестящим красавцем, словно недоступной игрушкой, холила и лелеяла это увлечение, переросшее в детскую опять-таки жажду обладания. Ты уважала его как общественного деятеля, благородного человека, но это еще не любовь…