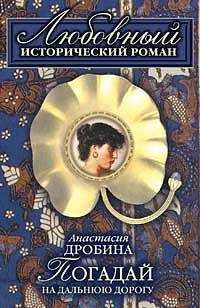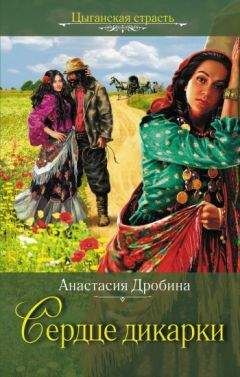Данка сощурила глаза, отгоняя подступившие слезы. За окном было темно хоть глаз выколи, но ей снова и снова чудились цветные огоньки, которые она видела в ту ночь из тройки, уносившей ее с красавцем поляком неведомо куда. Дробь лошадиных копыт по мерзлой земле, холодная медвежья шерсть полости, иней на воротнике, блеск перстней, теплые губы Казимира и эти цветные огоньки вдали... За то, чтобы возвратить ту ночь, Данка отдала бы десять лет жизни, но кому было знать, как не ей, – ничего на свете не возвращается и не повторяется.
Данка отошла от окна. С ужасом посмотрела на пустую, развороченную кровать, понимая, что стоит ей закрыть глаза – и сон вернется снова. Вздохнув, решительно шагнула к столику, зажгла свечу и пошла из комнаты.
В детской мигал оплывший огарок. В углу дремала нянька. Опасливо косясь на нее и загораживая ладонью пламя своей свечи, Данка прокралась к кроваткам.
Пятилетний Миша сбросил с себя во сне одеяло, свесил вниз руку. Из уголка его рта тянулась ниточка слюны. Данка вытерла ее, нагнулась за упавшим на пол одеяльцем, но едва она начала укрывать сына, Мишенька проснулся и сел в кроватке. Потер глазки, сонно улыбнулся:
– Ма-а-ама...
– Ч-ш-ш... – Данка прижала палец к губам и поманила сына пальцем.
Тот заговорщически закивал, спустил босые ножки на пол, схватил мать за руку. В это время заворочалось одеяльце на соседней кроватке, послышалось хныканье. Данка на цыпочках подошла к дочке, взяла ее вместе с одеялом и подушкой на руки и быстро, тихо пошла вон из детской. Мишенька, стараясь не шлепать ногами по полу, побежал за ней.
У себя в комнате Данка устроила снова уснувшую Наташу в углу своей кровати, легла рядом, и тут же под руку ей юркнул сын.
– Как в таборе? – счастливо спросил он, прижимаясь теплой со сна щекой к ладони матери.
– Да, маленький, – Данка старалась, чтобы голос ее не дрожал, – как в таборе. На одну перину ляжем, другой укроемся – и никакой мороз нам не страшен.
– А когда мы поедем в табор?
– Вот подрастешь – и поедем. Будешь цыган, будешь большой кофарь, лошадей продавать будешь...
– Я не буду продава-ать... – Мишенька уже засыпал. – Мне жалко продавать. Только покупать...
– Конечно, сладкий. Конечно, золотенький. Закрывай глазки.
Через несколько минут мать и дети спали. Лунное пятно переползло со стены на пол, свеча погасла. Встревоженная нянька заглянула в комнату, увидела три бугорка на кровати, сердито буркнула:
– Тьфу, цыганская душа... Опять дитёв к себе затащила. Ничем не переталдычишь! – перекрестила двери спальни и, шаркая ногами, поплелась досыпать.
На Калитниковском кладбище солнце пестрило пятнами траву под вековыми деревьями. Самое захолустное из московских кладбищ было почти безлюдным – лишь у алтарной стены церкви копошилось несколько старух да возле могилы архитектора Богомолова стояла на коленях молодая женщина в накинутой на голову мантилье. Задворки же вовсе были пустынны. Знатных надгробий здесь почти не было, бедные памятники украшали фамилии живущих в Рогожской слободе мелких купцов, рабочих, фабричных. С зарастающего пруда тянуло свежестью, в затянутой ряской зеленой воде играли солнечные лучи. После ночной грозы ушла выматывающая душу духота, и воздух был теплым, свежим, насквозь прогретым июньскими лучами. По небу медленно плыли кучевые облака. Чуть слышно шелестела умытая листва, подрагивали листья лопухов, толстый шмель сердито гудел в розовом цветке шиповника. Солнечные пятна скакали по серым, растрескавшимся, покрытым мхом и повиликой могильным памятникам. Со стороны церквушки доносился слабый звон. Из недалекого оврага, разделяющего кладбище пополам, слышалось блеянье слободских коз.
Илья сидел на упавшей каменной плите с полустертым староверческим крестом, вертел во рту соломинку и смотрел, как пляшет Маргитка. Ее туфли валялись тут же, на примятой траве, а сама она кружилась босиком, вскидывала руки, поводила плечами, ставила «ножку в ножку» и, улыбаясь, била босыми пятками тропаки. Вьющиеся пряди волос, которые Илья полчаса назад сам распустил ей, покрывали всю ее тонкую, точеную фигурку, от движений быстрых ног волновался малиновый подол платья. Танцуя, Маргитка то и дело оборачивалась через плечо, смотрела – глядит ли? – и, поймав взгляд Ильи, улыбалась во весь рот. В зеленых глазах билось солнце. Закончив пляску, Маргитка шутливо поклонилась и, обмахиваясь платком, села на плиту рядом с Ильей.
– Понравилось?
– Лучше тебя плясуний не видел.
Она счастливо рассмеялась, прижавшись к нему. Солнечный луч запрыгал по ее лицу. Илья потянулся к ней. Маргитка, не открывая глаз, подалась навстречу, сама поцеловала его раз, другой, третий. Илья погладил ее волосы, украдкой вздохнул, и Маргитка тут же открыла глаза.
– Что ты? Что не так?
– Все хорошо, – отговорился он.
Что толку было ей объяснять? Самому думать нужно было, старому черту, а теперь чего ж... Ну кто бы мог подумать, что он, Илья Смоляко, вляпается в такое дело на старости лет? Расскажи кому в таборе – не поверят.
– Илья...
– Что?
– Люблю я тебя.
– Я знаю, чайори. – Он не открывал глаз, чувствуя себя неловко.
– Ничего ты не знаешь! – Маргитка отстранилась от него. – И не понимаешь ничего! Я теперь, наверное, не скоро сюда опять приду. Это ты целый день шляешься где хочешь, а меня кто пустит? Сегодня вот удрала, а потом? Хоть ложись да помирай совсем.
– А к Сеньке Паровозу на Сухаревку кто бегал?
– И не надоело вспоминать? – кисло сморщилась Маргитка. – Надо же было от него, шаромыжника, отвязываться как-то.
– Он же с тобой не спал.
– Не спал, но собирался! Уже обещал за меня в хор тридцать тысяч отдавать! Обещал: подожди, богатого купца сработаю, уплачу за тебя, и поедем в город Адессу...
Маргитка нахмурилась, умолкла. Минуту спустя сердито сказала:
– Кабы ты меня любил хоть на пятак, то взял бы меня в охапку, и уехали бы мы с тобой. Ты же таборный. Должен знать, как такие дела делаются. Мне отец рассказывал, как ты для него Илону воровал.
Илья смутился.
– Я, девочка, уже забыл, что я таборный.
– Забыл, так вспомни! – огрызнулась Маргитка. И тут же вздохнула: – Ладно, леший с тобой. Думаешь, я не понимаю? У тебя семья. Мы цыгане, слава богу... Правда, Настька твоя... тьфу!
– Маргитка...
– А что «Маргитка»? Я, конечно, знаю, она красавицей была, по портрету видно. Но сейчас-то... Ведь задавиться легче! Как ты с ней в постель ложишься, морэ?
– Девочка!
– Страшнее смертного греха, побей бог! – Маргитка недобро усмехнулась. – Ты, Илья, мне только шепни, я из нее мигом слепую сделаю!
– Убью! – взорвался Илья, и Маргитка отпрянула, сообразив, что он не шутит. Не удержавшись на краю плиты, она с писком повалилась в лопухи. Через минуту из-за мясистого листа выглянул перепуганный зеленый глаз: