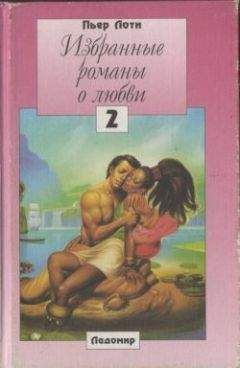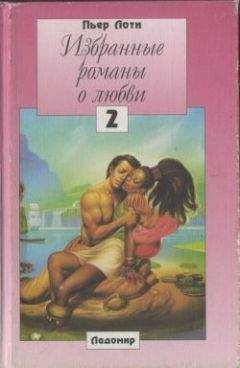Для ответа на эта вопросы желательно иметь представление о его эстетических вкусах и литературных симпатиях, любимых писателях, поэтах, художниках. Увы, достоверных данных об этой стороне жизни Лоти почта нет.
По свидетельству ближайших родственников, в юности Жюльен отдавал явное предпочтение Шатобриану, в первую очередь его «Натчезам» — поэме в прозе о североамериканских индейцах, написанной под влиянием руссоизма. Важный ориентир! Шатобриан — отец (Белинский) и сахем (Т. Готье) французского, да и не только французского, а всего западноевропейского романтизма — дважды знаменательная для Лоти фигура. Во-первых, Шатобриан эскапист, не столько противопоставивший природу цивилизации, сколько впервые изобразивший наработанную культурой полноту и действительную утонченность душевной жизни. Во-вторых, что, может быть, еще важнее, он певец «беспредметных страстей» (du vague des passions), испытывающий на прочность все почитавшиеся бесспорными ценности европейской цивилизации (от греко-римской до современной английской, и по сей день вкушающей плоды «славной революции»).
Лоти восхищался Эдмоном Гонкуром, был лично знаком с ним (Жюль к тому времени уже умер). Дружил и переписывался с Альфонсом Доде, чрезвычайно высоко ценил его книги: «Письма с моей мельницы» и «Короли в изгнании». Но любимым писателем был Гюстав Флобер, а роман «Саламбо» — настольной книгой. Иными словами, Лоти интуитивно впитывал все, полемически противопоставлявшееся цивилизации, все, что будет подхвачено и развито литературой XX века. Когда, как уже говорилось, в мае 1891 года членом Французской академии был избран Пьер Лоти, а не Эмиль Золя, академики, отдавшие предпочтение Лоти, обозначили своим выбором не только собственное понимание будущего французской литературы, но и стремление сориентировать ее развитие в желательном для них направлении. В свою очередь, меданцы — писатели из ближайшего окружения Золя — увидели в новоиспеченном академике едва ли не своего злейшего врага.
Лоти не был одинок в своих неоромантических привязанностях. Его эстетика, обогащаясь и усложняясь открытиями парнасцев и символистов, прерафаэлитов и виталистов, поднимает на более высокий уровень руссоистскую антиномию природы и культуры. Его творчество неявно проникается мотивами, подсказанными Шопенгауэром и Ницше, вписывается, хотя и с известными оговорками, в контекст романов Дж. Конрада и Р. Л. Стивенсона, К. Гамсуна и Дж. Лондона.
В жанровом отношении многотомное наследие Лоти располагается на границе вымысла и документальности. С одной стороны, книги путешествий, дневники, мемуары Лоти тяготеют к вымыслу. С другой стороны, романы написаны в декларативно документальной, автобиографической манере. И вымысел и документальность ориентированы не столько на события, сколько на воссоздание производимого ими впечатления. «Все очарование, которым, казалось бы, наделен внешний мир, заключено в нас самих, исходит от нас, — писал Лоти в «Истории одного ребенка». — Это мы творим его — разумеется, для самих себя — и воспринимаем лишь его отражение». Исходным материалом для писателя всегда служило его собственное переживание; этого он никогда не скрывал, напротив, при случае всегда подчеркивал. Так, в предисловии к «Книге сострадания и смерти» (1890) он заметил: «В этой книге моего» я «еще больше, чем во всем, до сих пор мною написанном». И действительно, здесь Лоти предстает едва ли не предшественником Марселя Пруста, передоверяя свое объективирующее сознание логике бессознательного, разрушающей традиционный «реалистический» роман. Он выявляет новые взаимоотношения между эмпирической реальностью, бессознательным и посредствующим между ними сознанием, интересуется их специфическим взаимодействием. В главе «Мертвое прошлое» герой, совсем как у Пруста, сидя у окна, вдыхает запах жасмина, и вместе с запахом в нем пробуждается необыкновенно живой ряд не воспоминаний, нет, а фантазий: что и как могло произойти тут, на этом месте, лет 60–70 тому назад? «Вдруг из близлежащих садов до меня донесся запах жасмина, и я подумал о прошлом… совсем недавнем прошлом. И вот благодаря темноте напряг всю свою волю, воображая, что настоящего нет, что мир помолодел на шестьдесят — восемьдесят лет». Герой видит свою бабушку, со всеми психологическими приметами ее времени, ее истекшей молодости.
Ретроспективная и проспективная диахрония позволяют автобиографическому герою Лоти переживать прошлое и будущее как сиюминутную реальность. Не в этом ли состояла высшая эстетическая цель писателя, видевшего в искусстве, аполлоническом начале, возможность иллюзорного торжества над смертью?
А вот тот же герой на экскурсии в Аяччо — доме-музее Наполеона I. Внимание экскурсанта привлекает, в частности, портрет матери Наполеона — и в воображении возникает образ собственной матери, непрерывная смена впечатлений выливается в своего рода «поток сознания». Затем внимание ослабевает, источник ассоциативных образов иссякает: «От усталости внимание вдруг рассеивается в результате слишком напряженной сосредоточенности на одном сюжете. Я продолжаю осматривать дом Наполеона, но думаю уже о другом, обо всем сразу и ни о чем конкретно, совершенно безучастно».
Импрессионизм эпистолярно-мемуарно-дневникового сказа Лоти осложнен внутренней диалогичностью: рассудочный Лоти, знающий о безжалостном Хроносе, пожирателе собственных детей, о тщете человеческих притязаний, подавляет своими аргументами эмпирического Лоти, страстно привязанного к жизни, дорожащего ею, ждущего от нее убедительных разоблачительных откровений. Поэтому по форме его романы тяготеют к дневнику, поскольку дневниковая сиюминутность осмысления прожитого поглощает и подчиняет себе более обобщающие формы дискурса: письма, мемуары, исповеди.
В «Азиаде» дневники Лоти представляет читателям англичанин Пламкетт, реальная, между прочим, фигура — исторический персонаж. Прием предуведомления — старый, ведущий свою родословную еще с XVIII века, но надежный, мотивирующий документальность проникновенно-доверительного слова рассказчика. Это слово противостоит обобщающему слову бальзаковской эпопеи, осмысляющей героя не как самодостаточного индивида, а как часть социального механизма, приводимого в движение совокупностью отдельных волений, каждое из которых, в свою очередь, бессознательно осуществляет анонимную волю общественного целого. Герой Лоти решительно не желает связывать себя, ни тем более объективировать, преходящими ценностями: «Я ненавижу все условности, все общественные обязанности, придуманные в странах Запада», — в сердцах восклицает «лейтенант английского флота» Пьер Лоти. Не связанный «условностями» предрассудков, привязанностей, долга, герой бежит от них в дальние страны, где государственность или еще не вполне сложилась, или находится в стадии становления, как, например, в Турции. 27-летний Лоти «Азиаде» — добровольный изгнанник. Его дневник — исповедь сына конца века. В письме к Уильяму Брауну он излагает свое кредо «имморалиста» ницшеанско-бергсонианского типа: «Бога нет, морали нет, ничего из того, что нас учили уважать, не существует; есть только жизнь, она проходит, и логично требовать от нее максимум радостей, которые она может дать в ожидании ужасного финала, имя которому — смерть. […] Я открою вам душу, обозначу символ веры: я взял за правило всегда делать то, что мне хочется, наперекор всякой морали, всяким правилам общежития. Я не верю ничему и никому, не люблю никого и ничего, у меня нет ни веры, ни надежды».